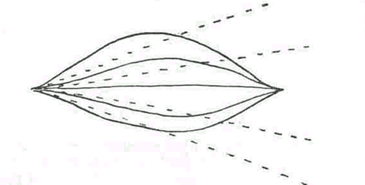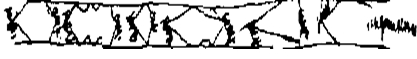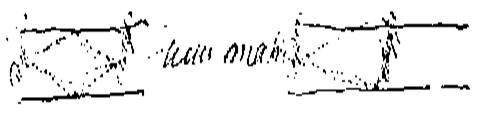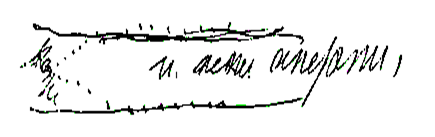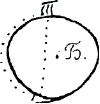И.Б.Мардов
Лев Толстой. На вершинах жизни
Часть 5. Взлёт птицы небесной
«Ошибаюсь или нет, но мне кажется,
что только теперь – хороши ли, дурны ли? – но
созрели плоды на моем дереве» (56.4).
Дневник Льва Толстого, 14 января 1907 г.
1 (52)
В 900-х годах, в последнее десятилетие своей жизни, Лев Толстой, продолжая свой одиночный Путь восхождения, все более и более отлеплялся от земной жизни и подымался к жизни вселенской, вечной. Мистические и метафизические представления 900-х годов не противоречат представлениям 90-х годов; они не совсем о том, о чем раньше: не о личной духовной жизни человека, а о Жизни Бога и о вхождении (и запросах) жизни вечной в человека.
При всем том Толстой продолжал утверждать, что "для христианина нет и не может быть никакой сложной метафизики"(73.120), что следует особенно остерегаться опасности, состоящей в том, "чтобы в вопросах религиозных желать уяснить себе больше того, что дано нам знать с полной ясностью. Ничто так не лишает людей истинного религиозного чувства, дающего твердую основу жизни, как слишком большие запросы и попытки определения того, познание чего не дано и не нужно нам"(82.83). Так, "при определении того, что мы понимаем под словом Бог, главная опасность не в том, что не вполне определим Его, что невозможно, а что мы скажем что-либо лишнее, умаляющее или извращающее это понятие"(82.83).
И это возможно, если ограничить себя и не пытаться искусственно развивать свою мысль.
"В самом начале, как бы в программе, в постановке вопросов так всё хорошо, сильно, сжато сказано, что всякое подтверждение, уяснение только ослабляет, охлаждает"(89.60).
Дневники Толстого последних лет сплошь заполнены попытками дать сжатые определения того, что такое жизнь? Бог? разум? любовь? Таких формул в дневниковых записях Льва Николаевича великое множество. Иногда они фиксируют изменение взгляда на тот или иной метафизический вопрос, но часто это различные редакции одного и того же взгляда. Раз за разом Толстой упорно искал верную позицию по тому или иному вопросу и точную формулу, соответствующую этой позиции. Для кого и с какой задачей делалось это?
«Думал о том, что пишу я в дневнике не для себя, а для людей – преимущественно для тех, которые будут жить, когда меня, телесно, не будет, и что в этом нет ничего дурного. Это то, что, мне думается, от меня требуется. Ну, а если сгорят эти дневники? Ну, что ж? они нужны, может быть, для других, а для меня наверное – не то, что нужны, а они – я. Они доставляют мне благо»(55.209).
Толстовские Дневники – нечто вроде завещания потомкам. Поэтому в них он стремится передавать только главное, что вынес из своей жизни и что составляло ее благо.
Но в Дневниках неизбежно попадается и случайное, и черновое, и недостаточно ответственно сказанное. Особенно если помнить принцип работы мысли Толстого, в соответствии с которым "надо любить истину так, чтобы всякую минуту быть готовым, узнав высшую истину, отречься от всего того, что прежде считал истиной"(58.170).
Лев Толстой специально обратился ко всем с такой просьбой:
"Очень важное. Хотя это и очень нескромно, но не могу не записать того, что очень прошу моих друзей, собирающих мои записки, письма, записывающих мои слова, не приписывать никакого значения тому, что мною сознательно не отдано в печать. Читаю Конфуция, Лаотзи, Будду (то же можно сказать и о Евангелии) и вижу рядом с глубокими, связными в одно учение мыслями самые странные изречения, или случайно сказанные, или перевранные. А эти-то, именно такие странные, иногда противоречивые мысли и изречения — и нужны тем, кого обличает учение. Нельзя достаточно настаивать на этом. Всякий человек бывает слаб и высказывает прямо глупости, а их запишут и потом носятся с ними, как с самым важным авторитетом"(57.124).
Исполнить пожелание Толстого исследователю нелегко. Толстым сознательно отданы в печать статьи "Единая заповедь", "Закон насилия и закон любви", "Конец века", "Верьте себе" и прочее. Но всё это работы не столько мыслителя, сколько проповедника, да и рассчитаны на аудиторию, восприятие которой далеко не всегда отвечало ожиданиям Толстого. В них он особенно остерегался «соблазнения» «без и полуграмотных» людей (см.89.124) и потому избегал обсуждения метафизических вопросов.
Кроме опубликованных при жизни Толстого статей, им сознательно отданы в печать ряд мыслей, которые в том или ином виде содержатся в "Круге чтения", "На каждый день", "Пути жизни". Огромный материал. Но и этим материалом пользоваться надо осторожно. Он так же рассчитан на самый широкий круг, с которым далеко не всегда уместно обсуждать метафизические проблемы. В публичном общении мыслями Толстой если и не понижал, то приноравливал свои мысли к уровню читателей. И делал это намеренно.
"Как ни дерзко, самоуверенно это, не могу не думать и не записать себе, что мне нужно помнить в моем общении с людьми, что я с огромным большинством из них стою на такой точке мировоззрения, при которой я должен спускаться часто и очень много, чтобы общение какое-нибудь было возможно между нами"(57.132).
Иное дело – письма Толстого по мировоззренческим и метафизическим вопросам. Они, как правило, были адресованы единомышленникам или близким Толстому людям. Толстой был уверен, что они сохранят и опубликуют его письма. Отправлять письмо столь надежному адресату, по сути, значило отдавать его в печать.
И все же основная работа духа и разума Льва Николаевича зафиксирована в его Дневниках. К ним отношение особое. «Я прошу Вас взять на себя труд пересмотреть и разобрать оставшиеся после меня бумаги и вместе с женою моею распорядиться ими, как вы найдете это нужным… – пишет Толстой Черткову 26 мая 1904 года. – Всем этим бумагам, кроме дневников последних годов, я, откровенно говоря, не приписываю никакого значения и считаю какое бы то ни было употребление их совершенно безразличным. Дневники же, если я не успею более точно и ясно выразить то, что я записываю в них, могут иметь некоторое значение, хотя бы в тех отрывочных мыслях, которые изложены там»(88.327).
Метафизическую работу Дневников Толстого оборвала его смерть. Мы пользуемся тем, что оставил нам Толстой после смерти. Многое из этого наследия выражено Львом Николаевичем и точно, и ясно. Но, конечно, все указанные выше затруднения в работе с Дневниками и с письмами Толстого остались.
2 (53)
Вскоре после смерти сына Ванечки, в 1896 году, Толстой осознал, что в нем начался переход на новую, более высокую ступень Пути жизни.
"Радостно то, что положительно открылось в старости новое состояние большого неразрушаемого блага. И это не воображение, а ясно сознаваемое, как тепло, холод, перемена состояния души – переход от путаницы, страдания к ясности и спокойствию и переход от меня зависящий. Вот именно выросли крылья. Почему же не всегда на крыльях? А видно, слаб еще. Не приучился, а может быть необходим отдых"(53.183).
Птица Небесная еще не умеет летать, но она понемногу высвобождается от земного тяготения и расправляет крылья. Вот как об этом говорит Толстой:
"Тот я индивидуальный, который прежде сливался с я Божественным, которого я боялся лишиться и которого любил, все больше и больше отлипает от я Божественного и уже не нарушает жизни этого Божественного я. Не вполне, но я знаю, что наступила новая радостная, заметная ступень"(88.21).
Эту новую ступень Толстой называл «своим пробуждением». Это уже второе его Пробуждение, наступившее через 30 лет после первого.
Первое его Пробуждение в 40 лет – это пробуждение высшей души к работе выхода ее из "пустыни жизни", как он говорил, на собственно духовный путь жизни. Второе Пробуждение в 70 лет совершилось на выходе Толстого из личной духовной жизни к жизни всеобщей и вечной, к свободе Вселенской духовной жизни. Со второго Пробуждения начинаются роды вечной Божественной Жизненности Птицы Небесной. Конечно, это сказалось на Богосознании Толстого. Лев Толстой отходит от Бога личной духовной жизни (от «Бога своего»), чтобы стать ближе к Богу Самому.
"Ев. Ив. сказал, что он не понимает Бога внешнего, что он знает только Бога в себе. – Пишет он Черткову. – Да ведь Бог в себе так связан с той человеческой личностью, в которой он проявляется, что никогда, наверное, не знаешь, чист ли от меня тот голос Бога, который я слышу в себе. По тому затемненному моей личностью Богу, которого я знаю в себе, я знаю Бога чистого, неограниченного, которого нет во мне; или иначе – я должен отрешиться совсем от своей личности, чтобы познать Бога. А когда я отрешился от своей личности, то Бог, которого я познаю, уже не во мне, потому что тогда нет личности. Так что со всех сторон, как ни поверни, – Бога можно знать только вне себя. То, что мы знаем в себе, есть только путь, ведущий к Богу, пуповина, связывающая нас с Богом. А сказать, что Бог во мне, значит сказать, что я не знаю Бога"(88.66).
Второе Пробуждение Толстого по времени совпало с перерывом в работе над романом «Воскресение». Что, разумеется, отразилось на его замысле и содержании.
Первый блок рукописей романа "Воскресение" создавался до начала 1896 года, потом в работе был перерыв на два с половиной года, а затем – второй блок рукописей. Сдвиг в жизневоззрении Толстого между этими двумя этапами работы достаточно заметен.
Сторгическое чувство, которое возникло в молодости героини романа (и которое, вообще говоря, редко окончательно исчезает в человеке, раз возникнув), возрождается в ней по ходу повествования во всех пластах рукописей. Но в первом блоке рукописей роман завершается женитьбой и состоявшейся сторгической связью супругов Нехлюдовых. Во втором же блоке рукописей, работа над которыми шла с конца 1898 года, и в каноническом тексте финал романа иной. Ради Нехлюдова Катюша благородно жертвует любовью к нему (что с точки зрения "одного цельного существа" следующей жизни и преступно, и нелепо). У Нехлюдова же никакого сторгического влечения к Масловой никогда не было и, кажется, быть не могло. Он готов был отдать себя Катюше исключительно по требованиям и вдохновению идеалов, далеких от идеалов сторгической любви. Если он и любит ее, то той любовью-жалостью, которая у Толстого спасала и Ивана Ильича перед смертью. Стремление Нехлюдова к бывшей проститутке Масловой не взаимно и вообще не по любви, а по установкам сознания, порожденным в поле агапической жизненности. В отличие от "Анны Карениной" "Воскресение" в каком-то смысле оказался антисторгическим романом. Итогом всей истории во втором блоке рукописей и в окончательном тексте стала не любовь, а просветление сознания того и другого. Герой романа прозревает и в результате своего прозрения приходит к тому, к чему сам Толстой пришел в начале 80-х годов, во времена "Соединения и перевода четырех Евангелий" и "В чем моя вера?".
Лев Толстой никогда не отказывался от своего прозрения Обителей, но началом, образующим новое духовное существо все более в его понимании становилась не любовь, а сознание жизни (восходящее к "разумению жизни" времен его работы над Евангелием), тесно связанное с вечной жизненностью Бога.
Вот что по интересующему нас поводу думает Толстой в ноябре 1897 года, то есть как раз в перерыве работы над "Воскресением". О любви в этой цитате уже нет ни слова.
«Моя жизнь – мое сознание моей личности все слабеет и слабеет, будет еще слабее и кончится маразмом и совершенным прекращением сознания личности. В то же время, совершенно одновременно и равномерно с уничтожением личности, начинает жить и все сильнее и сильнее живет то, что сделала моя жизнь, последствия моей мысли, чувства; живет в других людях, даже в животных, в мертвой материи. Так и хочется сказать, что это и будет жить после меня. Но все это лишено сознания и потому не могу сказать, что это живет. Но кто же сказал, что это лишено сознания? Почему я не могу предположить, что это все объединится новым сознанием, которое я справедливо могу назвать моим сознанием, потому что оно все составится из моего? Почему не может это другое, новое существо жить вместе с теми существами, которые теперь живут? Почему не предположить, что мы все – частицы сознания других, высших существ, таких, какими мы будем. «У отца моего обители многи суть», не в том смысле, что места разные есть, а в том, что сознания личности разные: одни включаются и переплетаются с другими*). Ведь весь мир, какой я знаю с его пространством, временем, есть произведение моей личности, моего сознания. Как только другая личность, другое сознание, так совсем другой мир, элементы которого составляют наши личности. Как в ребенке, во мне понемногу зарождалось сознание (которое сделало и то, что я себя ребенком, зародышем даже, вижу отдельным существом), так оно зарождаться будет и теперь, уже зарождается в последствиях моей жизни, в будущем моем я после смерти. Церковь есть тело Христово. Да, Христос теперь в своем новом сознании живет жизнью всех живых и умерших и будущих членов церкви. Так же будет жить и каждый из нас своею церковью. И у самого ничтожного будет своя ничтожная и может быть плохая церковь, но церковь, составляющая новое тело его. Но как? Вот этого мы не можем представить себе, потому что ничего не можем представить себе вне нашего сознания. И не обители, а сознания многие суть. – Но тут последний, самый страшный неразрешимый вопрос: зачем это? Зачем это движение. Эти переходы из одних низших, более частных сознаний в более общие – высшие? Зачем? Это тайна, которую мы не можем знать. В этом-то и нужен Бог и вера в Него. Только Он знает это и надо верить, что это так надо»(53.162-3).
У Толстого были мысли продолжить "Воскресение". Можно не сомневаться, что в этом новом романе Нехлюдов, придя к мысли вечной жизни, в земном смысле жил бы в одиночестве, исключительно повинуясь требованиям сознания своей высшей души.
Еще более значителен, на наш взгляд, такой факт. В первом блоке рукописей «Воскресения» Симонсон излагает в качестве своих совершенно чуждые Льву Николаевичу федоровские идеи воскрешения отцов. Во втором блоке рукописей Симонсон излагает сокровенные толстовские мысли, восходящие к представлениям второго сна Пьера Безухова в IV томе «Войны и мира».
Прозрение сна Пьера и прозрение князя Андрей перед смертью – одно целое светлого откровения сорокалетнего Толстого. Их связывает вместе мистическое озарение Бога, Мира и Жизни.
Князь Андрей, прежде чем заснуть и пробудиться Птицей Небесной, думает о том, что «Любовь есть жизнь» и «Любовь есть Бог» и что умереть, значит, «частице» вернуться «к общему и вечному источнику». «Но это были только мысли» и в них не было той очевидности, которая возникла только тогда, когда «то грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей жизни», стало «почти понятное и ощущаемое". Примерно то же самое произошло и в жизни Льва Николаевича.
Светлые откровения сорокалетия даются, по-видимому, на дальнюю перспективу Пути восхождения. Они обычно не действуют сразу, но определяют направление духовного роста путевого человека на десятилетия вперед. Вроде бы и незаметно, что светлые откровения того времени изменили мировоззрение Льва Николаевича после завершения «Войны и мира». Влияние их отчетливо сказалось лишь через сорок лет, когда для Толстого «наступила новая радостная, заметная ступень" и видение сна Пьера стало для него «почти понятное и ощущаемое». Сонное видение Пьера есть то самое первичное откровение, из которого выросло метафизическое древо учения Толстого. Тут тайный глубинный исток религиозного сознания Льва Толстого. В 40 лет Лев Толстой узрел – и не воображением, а в видении – высшую вселенскую Жизнь. Это озарение Бога навсегда укоренилось в нем. Многие и многие годы он хранил в себе это видение, откладывая до того часа, когда оно само заявило о себе в нем и сделалось той точкой и опорой, с которой и на которой стало заново отстраиваться его жизневоззрение, жизневоззрение старости, одухотворенной на вершине жизни.
Далеко не все в видении сна Пьера подтверждено духовным опытом и мудростью старца Толстого. Но ключевое положение: «Жизнь есть всё. Жизнь есть Бог» – так навсегда и осталось основой его Богосознания.*) «Отец мой и всякой жизни!»(53.80) – звал Его Толстой. Бог для Льва Николаевича – Бог Жизни, живой Бог. Он – «сама сущность жизни, которая стремится к благу всего»(54.38).
Бог для Толстого – Один, одноцентрен. Хотя нельзя сказать, как во сне Пьера, что Он – «в середине». Он – Всё. «Главная непостижимость для нас Бога состоит именно в том, что мы знаем Его как существо единое – не можем иначе знать Его и между тем единое существо, заполняющее собой всё, мы не можем понять... А между тем для того, чтобы знать Бога и опираться на Него, нужно понимать Его наполняющим всё и вместе с тем единым»(53.119).
Однако искать Богословие у Толстого бесполезно.
«Бог есть, потому что есть мир и я, но думать о Нем не нужно. Нужно думать о Его законах. И мы понимаем Его только в той мере, в которой понимаем и исполняем Его законы. А то мы хотим, не исполняя Его законов, не только понять Его, но и войти с Ним в интимность – разговаривать с Ним, целовать, есть даже. Чем больше исполняешь Его законы, тем несомненнее Его существование и наоборот»(72.187).
3 (54)
«Мое пробуждение состояло в том, что я усомнился в реальности материального мира. Он потерял для меня все значение»(53.191. – Дневник 1898 года).
Отчасти это высказывание можно отнести к временам работы над Евангелиями, но в большей степени оно справедливо для времен второго Пробуждения Толстого, которое произошло, скорее всего, летом 1897 года.
До этого времени природа материи находилась, казалось бы, вне активного философского интереса Толстого. Хотя еще в 1876 году он писал о "важности и несомненности, которую приписывает человек веществу материи", о том, что "нет более важных, простых и несомненных знаний, как знание своей личности и материи" и что "значительность, которую имеют эти два камня знания, надо принимать в соображение и объяснять"(62.276).
Отвергнув (в конце 70-х или еще раньше?) Бога-Творца, Толстой рано или поздно должен был определиться в отношении вопроса существования материальности и ее происхождения. К концу 80-х годов Толстой приходит к убеждению, что "материя есть последствие деятельности духа"(50.223). Материя есть нечто производное, возникающее не из «ничего» (из несущего), а из духа, – как «последствие» его деятельности. Материю можно понимать как некоторую разновидность существования духа, как его продукцию. Материя есть один из результатов (неизбежных для нашего мира?) работы духа. Такой взгляд на материю развивался Толстым в середине 90-х годов, во времена работы над "Царством Божьим внутри вас".
Для автора «Царства Божьего внутри вас» деятельность духа во внутреннем мире человека состоит в «ускорении движения духовного роста». В мире вообще эта же деятельность духа выражается в «движении от неразумного к разумному»*). Мысль о движении всего существующего от неразумного к разумному Толстой намеревался развить в своего роде Заключении к «Царству Божьему внутри вас», но почему-то оставил свою мысль в черновиках (см. 28.326-330).
Если материя существует исключительно в подзаконности, вполне определена своими законами и законы эти – неизменны для нее (в ней), то в самой материальности нет «движения от неразумного к разумному». И, значит, она духовно неподвижна. В таком случае материя – это недвижный дух, нечто отработанное в духовной самодеятельности, в ней вполне выгоревшее, своего рода шлак духа.
Какова функция материи во Всём существующем? И есть ли у нее какая-либо собственная духовная функция? Есть, и очень важная:
Материя обеспечивает особое существование Единого Духа (Бога) – существование Его в отграниченности. Материальность создает пределы (или решающим образом способствует созданию пределов), с помощью которых Единый дух Сам делит Себя на части и живет в отделенности, в бесчисленных отдельных существах – каплях «живого глобуса» сна Пьера.
Старичок географ в качестве Жизни Всего показывал Пьеру не воду в пузыре, а плотно сжатые между собой капли в не имеющем размера глобусе. Капли эти потому и капли, что они неслиянные. Отделенность капли от капли создается какой-то пограничной пленкой, состоящей из того же самого, из чего сама капля, но как-то иначе выделанной. Материя есть не что иное, как эта пленка живых капель – «пределы отделенности» живого духа от живого духа.
«Все, что мы знаем, есть не что иное, как только такие же деления Бога. Все, что познаем как мир, есть познание этих делений. Наше познание мира (то, что мы называем материей в пространстве и времени) это соприкосновение пределов нашего Божества с другими его делениями. Рождение и смерть суть переходы от одного деления к другому»(53.131).
Это сказано в середине 90-х годов, и потому переходы из Обители в Обитель через рождение и смерть представляются Толстому переходом от одной формы пределов отделенности (одной «материальности») к другой форме, к «материальности» другого рода. «Наше Божество» переходит из Обители в Обитель, оставаясь в составе все того же «живого глобуса», Жизни Всего, Бога. Понятно, что работа жизни в других Обителях будет такая же, как наша работа жизни.
Человек, будучи одним из бесчисленных делений Бога, заключенных в телесные границы, занимает особое место в мироздании. Если материальный Мир брать как целое, то человек «не часть целого, – а временное и пространственное проявление чего-то вневременного и непространственного»(53.190). В этом смысле «движение по жизни» человека есть род «передвижения своей духовности по материальности мира»(53.134).
Материя, как нечто сущее, исходно существующее само по себе, – призрачна. Но в качестве производного от духа она существует в действительности. То, что мы воспринимаем материей, есть пределы делений духа, его границы, форма, которая отграничивает его «капли» друг от друга. Эти пределы (как и «личности») создаются в одной Обители для другой.
«Я смотрю и видимые линии пригоняю к форме, живущей в моем представлении. Вижу белое на горизонте и невольно даю этому белому форму церкви. Не так ли и все то, что мы видим в этом мире, получает ту форму, которая уже живет в нашем представлении (сознании), вынесенном из прежней жизни? (Идеи.)»(53.194).
«Идеи» взяты тут, по-видимому, в Декартовом смысле, как создаваемые духом образы вещей. Сами эти "идеи", говорит Толстой, создаются в деятельности духа предшествующей Обители. Высшая душа предшествующей Обители в «той» своей жизни (в «той деятельности духа») вырабатывает некоторые формы, которые выносятся сюда из прежней жизни и обуславливают «живущее в моем представлении». То же самое произойдет и в этой жизни относительно жизни в последующей Обители:
«Часто думаю, что мир такой, какой он есть, только потому, что я так отделен от всего остального. Как только мое отделение от ВСЕГО кончится, пределы расторгнутся и установятся другие, так мир станет для меня совсем другой»(53.210).
Это должно стать явным при переходе из одной Обители в другую:
«В момент перехода видно, что то, что мы считаем действительностью, есть только представление, т. к. мы переходим от одного представления к другому. Во время этого перехода видна или хоть чувствуется самая настоящая реальность. Этим важна и дорога минута смерти»(53.198).
Для Толстого существование и понятие материи неотделимо от существования и понятия жизни (см., например, 53.232). Взаимосвязь эта уже существует в видении сна Пьера. В середине 70-х годов Толстой писал Н. Н. Страхову:
"Я определяю жизнь – отъединением части, любящей себя, от остального. Без этого определения жизни неизбежно повторился бы круг, по которому человек был бы бог, центр всего. – Жизнь есть отъединение части от остального. Человек знает только живое. Поэтому для живущего доступно только живое, подобное ему; все же представляющееся ему мертвым есть живое, недоступное ему. Оно-то и есть непостижимое и не только соприкасающееся, но обнимающее его"(62.243-4).
Через четверть века (в конце 1902 года) Толстой в письме Черткову, по сути дела, заново раскрывает представления, заложенные в видении «живого глобуса»:
«Хотел нынче отвечать Вам на ваш философский вопрос, да не успел. А очень хочется ответить, тем более что я и не думаю отрицать реальности существования внешнего мира.*) Ответы мои на Ваши вопросы есть в моем дневнике, если у Вас есть список.
Жизнь человеческая в этом мире есть рост, изменение отдельного ограниченного существа. Рост или изменения в этом отдельном существе мы познаем в виде движения. Отдельность же или ограниченность этого существа — в виде материи, тела. Пределы изменений нашего существа и изменений других существ мы познаем в виде движения. Пределы отдельного отграниченного существа мы познаем в виде материи. Меру изменений отношений, изменений разных существ дает нам время; меру пределов, отношения пределов разных существ, дает нам пространство.
Так как мы познаем себя только как пределы изменений нашего существа по отношению изменений других существ и пределы своей отделенности по отношению других существ, то мы не можем не признавать существования существ вне нас. Мы узнаем некоторых из них по нашему отношению к ним и по аналогии их устройства и предельности с нашей. Некоторых же мы, хотя и прикасаемся с ними, как, например, с землей, солнцем, мы, хотя и признаем их нашими пределами, мы не знаем».
Капли в «живом глобусе» Пьера «все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею».
«Жизнь состоит в изменении, росте и расширении пределов. – Продолжает Толстой письмо Черткову. – Сначала расширяются пределы движения и материи, потом движение и материя не поспевают за ростом, и тогда они разрушаются, и наступает смерть: уничтожение пределов как движения, так и материи в этом мире».
Впрочем, мысль Толстого не так проста, как может показаться на первый взгляд. Читаем дальше:
«В какой форме переходит жизнь в новое состояние, мы не только не можем знать, но не можем и говорить. Мы скажем – «начнется новая жизнь», и скажем не то, потому что слово «кончилось», «начнется» означает последовательность во времени, а в новой жизни мы не имеем права предполагать изменений и движения, так как и то и другое есть свойство только этой жизни. Точно так и в пределах отдельности в материи и пространстве, так как и то и другое — свойство только этой жизни.
Очень может быть, что мы и теперь живем, не сознавая изменений и пределов.
Будет очень странно, если Вы что-нибудь поймете из всего этого. Но я очень понимаю, хотя и не умею еще высказать»(88.265-6).
4 (55)
"Я знаю, чувствую всем моим существом, что и крепкая морозная земля, и деревья, и небо, и мое тело, и мои мысли – что всё это только произведение моих пяти чувств, мое представление – мир, построенный мною, потому что таково мое отделение от мира, какое есть. И что стоит мне умереть и всё это не исчезнет, а видоизменится, как бывают превращения в театрах: из кустов, камней сделаются дворцы, башни и т. п. Смерть есть не что иное, как такое превращение, зависящее от другой отделенности от мира, другой личности: то я себя, свое тело со своими чувствами считаю собою, а то совсем иное выделится в меня. И тогда весь мир станет другим. Ведь мир такой, а не иной только потому, что я считаю собой то, а не другое. А делений мира может быть бесчисленное количество. Не совсем ясно для других, но для меня очень"(53.211).
Из этой цитаты видно, что пределами отделенности человека Толстой считает не собственно материальную его составляющую и даже не его живое тело, а «свое тело со своими чувствами», свою «личность», то есть весь психофизиологический состав человека, – тело и связанную с ним низшую душу человека. Понятие «материальное» у Толстого часто тождественно понятию «животное». Именно низшая душа в человеке исполняет функцию пределов отделенности высшей души человека.
Впрочем, после второго Пробуждения Толстой совсем не занят жизнедействием низшей души самой по себе, а только Божественной сущностью человека и её светом.
«Каждый из нас это свет, Божественная сущность, любовь, сын Божий, заключенный в тело, в пределы, в цветной фонарь, который мы же разрисовывали нашими страстями, привычками, так что всё, что мы видим, мы видим только через этот фонарь. Подняться, чтобы видеть через него, нельзя — наверху такое же стекло, сквозь которое и Бога мы видим, сквозь нами же разрисованное стекло. Одно, что мы можем — это не смотреть сквозь стекла, а сосредоточиться в себе, сознавать свой свет и разжигать его. И это одно спасенье от обманов жизни, от страданий, соблазнов. И это радостно и всегда возможно. Я делаю это. И хорошо»(53.176).
Личность в составе человека – это нами же раскрашенный цветной фонарь и "всё, что мы видим, мы видим только через этот фонарь», через его стекла. Стекла цветного фонаря (своего рода цветная модификация пленки отделенности, через которую «капля» в "живом глобусе" воспринимает то, что вне ее) так искажают наш взгляд, что «мы» видим не то, что есть в действительности. «Мы» иначе и не можем. Но не это определяет ситуацию жизни человека, а то, что его духовная сущность заперта в фонаре личности. После своего второго Пробуждения Толстой все острее и острее осознает это.
"Все чаще и чаще наступают времена, когда ничего не хочется в этом мире для себя и когда совсем ясно видишь (чувствуешь), что ты не то сложное телесное существо со всеми своими воспоминаниями, привычками, страстями, а что ты та духовная сущность, которая заперта в этот со всех сторон окрашенный твоими наклонностями, привычками, страстями фонарь; и что ты ничего не можешь видеть, понимать иначе, как через этот фонарь, и что ты и фонарь – две вещи разные; и что скучно смотреть через этот, тобою же разрисованный, все тот же фонарь и хочется смотреть в себя, или подняться выше и смотреть через окрашенные стенки туда, где нет преград и лишений. Хочется только помнить Бога, быть с Ним, и не хочется действовать… Если не смотришь на мир через надоевшие свои рисунки стекол, то больше занят разжиганием огня, света, который горит в фонаре. А то смотреть через стекла в мир – это сновидения действительности, а смотреть на одни стекла – это сновидения во сне"(88.72).
На восьмом десятке жизни Толстой четко осознал «что ты и фонарь – две вещи разные». Его индивидуальное я постепенно отлипает от Я Божественного и «уже не нарушает жизни этого Божественного Я». Толстой вошел в такую стадию Пути восхождения, в которой духовная сущность не хочет быть в фонаре (в «личности») и желает вырваться оттуда. Но – откуда?
"Жизнь индивидуальная, личная, – постигает Толстой, – есть иллюзия, такой жизни нет, есть только функция, орудие чего-то"(53.220).
Жизни фонаря, жизни личности, накрепко завязанной с жизнью плоти, нет для Отца. Жизнь низшей души – функция отделенности духовного Я в человеке и орудие, нужное для осуществления чего-то, ради чего духовное существо послано в этот мир и находится в состоянии отделенности. Так как же вырваться отсюда? Можно ли и нужно ли?
Еще в 1894 году Лев Николаевич получил письмо, автор которого писал, что, кроме надежды на получение разрешения его вопросов Толстым, ничто не удерживает его от самовольного ухода из жизни. Толстой ответил ему так:
«Жизнь есть освобождение души (духовной, самобытно живущей сущности) от тех условий телесной личности, в которые она поставлена. Бог есть то духовное самобытно живущее существо, по воле Которого душа наша заключена в нашу телесную личность. Освобождение души может быть двух родов: посредством одновременного или постепенного самоубийства, т. е. уклонение от исполнения воли Бога, или посредством исполнения в жизни того дела, для которого душа заключена Богом в нашу личность. Первое освобождение есть освобождение только кажущееся, потому что происшедшая от Бога душа, и вся находящаяся в Его власти, не может перестать быть тем, чем она должна быть по воле Бога, и, сколько бы она ни противилась, будет принуждена исполнить то, чего требует от нее Бог; только исполнить это с противлением и страданием; второе же освобождение есть освобождение истинное, состоящее во все большем и большем исполнении воли Бога и большем и большем приближении к Нему и уподоблении Ему…*) И приближение это возможно до бесконечности и в приближении этом благо»(67.268-9).
Через пять лет, в 1899 году (то есть примерно в то время, к которому относятся все приводимые в этой главе цитаты), Толстой другому адресату отвечает на ту же тему:
«Жизнь неистребима, она вне времени и пространства, и потому смерть может только изменить форму, прекратить ее проявление в этом мире. А, прекратив ее в этом мире, я, во-первых, не знаю, будет ли ее проявление в другом мире более мне приятно, а во-вторых, лишаю себя возможности изведать и приобрести для своего Я все то, что оно могло приобрести в этом мире»(72.175).
Всё это так. И всё же состояние жизни Толстого теперь таково, что его духовное Я не может не желать «расшириться», вырваться из преград личности – к Богу. И удивительное дело: Толстой полюбил болезнь!
"Удивительно и радостно мне, – пишет он в декабре 1899 года Черткову, – что я очень полюбил болезнь – то состояние, которое, разрушая эту форму*), приготавливает к вступлению в новую; прямо жалко выздоравливать. Это в первый раз я испытал в эту болезнь и очень рад этому"(88.185).
И ему же через полгода, в 1900 году:
"В чем же очень успел, это сначала в пренебрежении к смерти, а потом в равнодушии, а потом и в желании ее. Я сначала думал, что это нехорошо, но это неправда. Мы всегда желаем идти вперед: из дитяти стать юношей, из юноши – мужем; я желал и старости, и желаю смерти, потому что это всё ближе и ближе к благу. Нынче особенно живо, умиленно чувствую это и, любя Вас, не могу не желать Вам.*) В виду смерти как-то особенно хорошо, нежно и спокойно любишь людей, чувствуя, что люди проходят, но не проходит та связь любви, которая соединяет с ними. Часто не только думаю, но чувствую в мире только любовь и соблазны нелюбви, скрывающие, давящие ее, с которыми она борется; что это только есть, точно есть, а все то, что мы считаем реальностью: типографии, Файфильд, Буры, Чемберлен, Николай II, китайцы – это всё только поводы, к которым придираются соблазны и любовь в своей борьбе"(88.215).
В последующие два года Толстой много, долго и тяжело болел. Были и критические минуты, когда и он сам готовился к смерти, и близкие готовились проститься с ним. Но духовные переживания своей болезни и своей смерти, о которых мы рассказываем, лишь закреплялись во Льве Николаевиче.
Зимой 1901 года: "Я все хвораю и слаб. Понемногу освобождаюсь от тела. В душе мне хорошо"(88.220).
В конце марта того же года:
«Вчера вечером, сидя один, живо вообразил себе смерть: заглянул туда или, скорее, представил себе всю ожидающую перемену с такой ясностью, как никогда, и было немного жутко, но хорошо»(54.93).
«Сейчас, мая 20, почувствовал верность, близость, радость смерти, т. е. перехода в другую жизнь»(54.101).
«Что было мне радостно и хорошо во время болезни, это то, что, умирая, я живу точно так же, как всегда. И что я чувствовал, или скорее: не чувствовал перерыва»(54.108).
22 июля, перед отъездом на лечение в Гаспру:
"Вы спрашиваете о моем душевном состоянии во время болезни. Я уже писал Вам, что это было очень хорошее время. Освобожденная от животного духовная жизнь, ее сознание было особенно радостно. Всё, что прежде казалось неразрешимым, так легко и хорошо разрешалось, и как всегда – всеобщей духовной панацеей: осуждением себя, смирением и любовью. Теперь животное оживает, и опять самооправдание, гордость и недоброта. Относительно же смерти я совершенно был равнодушен. Жизнь духовная так интересна, что, будет ли она продолжаться здесь или там, было все равно. Так что мне надо бы сделать большое усилие, чтобы бояться перехода. Как прежде, когда я считал своим я – свое животное, я не мог представить себе жизни после смерти, так теперь я не могу представить себе прекращения жизни при смерти"(88.240).
Из Гаспры:
«Побывав, как я, в сенях того света, так ясно, что только одно на потребу — пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем»(73.135).
И в 1902 году, уже после болезни:
«Здоровье мое поправляется. Но это поправление напоминает мне лампу, в которую подлили масла в то время, когда уже начинает светать и было видно и без лампы»(73.267).
«Одно могу сказать, что моя болезнь мне много помогла. Много дури соскочило, когда я всерьез поставил себя перед лицом Бога или всего, чего я часть изменяющаяся»(73.279).
«Очень мне после болезни стала близка смерть, и я благодарю Бога за болезни, во время которых многое понял»(73.262).
То, что Лев Николаевич понял тогда, столь значительно, что мы не смеем сокращать цитату:
«По моему убеждению, не рассудочному, но выведенному из опыта длинной жизни, — сущность жизни человека — духовная: человек есть дух, частица Божества, заключенная в известные пределы, сознаваемые нами материей; и жизнь духа не подлежит никаким стеснениям, тем менее страданиям, — она всегда равномерно растет, расширяя те пределы, в которых заключена. Людям же свойственно поддаваться обману, иллюзии о том, что сущность нашей жизни в тех пределах, которые ее ограничивают, то есть в материи.
И тогда, под влиянием этой иллюзии, мы смотрим на материальное страдание и в особенности на болезнь и смерть, как на несчастье; тогда как все материальные страдания (всегда неизбежные, как и самая смерть) только разрушают пределы, стесняющие наш дух, и, уничтожая иллюзию нашей материальности, возвращают нас к свойственному человеку сознанию своей жизни в духовном, а не материальном существе. Чем больше страдание материальное, чем ближе самая кажущаяся большим страданием смерть, тем легче и неизбежнее приводится человек к освобождению от иллюзии материальной жизни и к признанию ее в духе. Сознавая же жизнь свою в духе, человек, правда, не получает тех острых наслаждений, которые дает материальная животная жизнь, но чувствует свою полную свободу, неуязвимость, неистребимость, чувствует свое единение с Богом, с основною сущностью всего, — причем смерть не существует или смерть становится только избавлением и возрождением. И тот, кто испытал это состояние, не променяет его ни на какие материальные наслаждения. Я говорю это потому, что с необыкновенной силой и ясностью испытал это во время болезни.
Выздоравливая, я испытывал 2 противоположные чувства: одно – радость оживающего животного и – сожаление духовного существа о потере, заглушении той ясности духовного сознания, которое было во время болезни. Но, несмотря на все вступившие при выздоровлении в силу соблазны мирской жизни, знаю верно, что моя болезнь была для меня величайшим благом. Она дала мне то, чего не могли дать ни мои рассуждения, ни суждения других людей. И то, что она мне дала, я уже не потеряю никогда и унесу с собой… Дай Бог вам почувствовать всю благодетельность страданий и приближения к смерти, неизбежной смерти. Правда, что для этого нужно верить в свою духовную сущность, частицу Бога, не подлежащую никаким изменениям или умалениям, тем менее страданиям или уничтожению… Помогай Вам Бог, прежде всего тот, который в вас»(73.295-6).
5 (56)
Во время долгой болезни Толстой понял, что «жизнь духа не подлежит никаким стеснениям» и что «она всегда равномерно растет». Что «в этой жизни вспоминаешь не данные прошедшей жизни, а данные другой формы жизни. Жизнь всегда одна, только в каждой форме она кажется отделенной»(54.103-4).
«Жизнь будущая, загробная мне так же ясна и несомненна, как и настоящая жизнь. Не только ясна и несомненна – она есть та же самая, одна жизнь»(54.107).
Истинное течение нашей жизни, ее естественный духовный рост – это постепенное и незримое заполнение человека, его земной жизни, жизнью вечной.
«Жизнь представляется мне так:
круглое подвигается вверх, стержень расширяет, и жизнь становится меньше, тоньше, так:
и, наконец, жизнь совсем сливается со стержнем, с вечным, неизменяющимся»(54.112).
Картина «живого глобуса» показывала Жизнь Всего со стороны внешнего наблюдения. Капли сталкивались, расширялись и сжимались, поглощали одна другую, уходили в глубину, уничтожались на поверхности и прочее. Но что происходит во внутреннем мире капли, от ее возникновения (в пределах) и до разрушения ее пределов?
В человеке, как всегда у Толстого, есть два начала. Одно – «стержень» – «вечное, неизменяющееся», само по себе не производящее движение человеческой жизни, только присутствующее в ней в качестве высшей души. Другое – «круглое» – жизнь низшей души и тела, жизнь пределов отделенности. Но это «круглое» не похоже на наружную шаровую пленку, отделяющую каплю от капли. Это – плоскость, имеющая круглую форму, круг из одного и того же «материала», круг материальной жизни, жизни низшей души. «Круглое» в рисунке Толстого есть то, что он прежде называл «животной личностью». В самом «круглом» нет высшей души, но он в процессе движения жизни от рождения до старости все более и более надвигается на «стержень» и оттого сам все более и более уменьшается и уступает место вечной жизни. Таким образом, «круглое» (личность) есть реально действующее начало, но оно «не имеет смысла отдельно, но имеет значение и смысл только как переходной фазис жизни»(54.51).
Не надо думать, что образ надвигающегося на стержень круга действен только для высших духовных состояний на вершинах Пути. Это у Толстого образ земной навигации человеческой жизни как таковой. В каждой человеческой жизни есть это самонанизывание на стержень вечной жизни, которая в конце концов завладевает ею. Назначение человека и смысл его жизни в том, чтобы пособлять этому процессу. Отсюда «религия есть такое состояние, при котором поступки обуславливаются не соображениями об этой только, временной жизни, а соображениями о всей вечной, бесконечной жизни»(54.117).
Религия – не столько вера или мировоззрение, как учил Толстой прежде, сколько состояние души, в котором человек ориентирован на вечную жизнь.
«Круглое» уменьшается и разрушается не само по себе, а оттого, что уступает место стержню вечной жизни. Движение жизни личности относительно неизменной вечной жизни таково, что вечная жизнь неизбежно разрушает ее. Смерть при таком понимании движения жизни вообще не имеет значения. Теперь особое значение для Толстого обретает рождение. Вот один из его рисунков в записях конца 1902 года:
«Линии — это жизнь материальная, идущая все усиливаясь, – поясняет Толстой рисунок, – потом она идет ровно, потом к старости спускается. Точки – это духовная жизнь»(54.336).
Телесная жизнь пределов отделенности и вечная духовная жизнь завязываются в человеке в одной и той же точке его рождения. Духовная жизнь идет, все расширяясь, и заполняет область, ограниченную телесной жизнью. Но телесная жизнь сама «к старости спускается», сама разрушается, сама по себе смертна. Из земли взята и в землю возвращается. Пучок же духовной жизни продолжает расширяться за пределами земной жизни.
Всего интереснее в этом толковании жизни и смерти то, что в нем нет секрета смерти. Рождение – это взрыв, своего рода запуск из вечности в плоть и через плоть беспредельной духовной силы сознания и жизненности. Как и откуда этот запуск? – Величайшая тайна. «Какая удивительная тайна пришествия человека в мир»(56.30).
Смерть столь же мало таинственна, как разложение плода, выпустившего из себя семя, или, как вскоре определит Толстой, таяние «оболочки изо льда», в которой разгорается огонь. Сама по себе смерть перестала ужасать душу и возмущать сознание Льва Толстого и стала восприниматься им не более как необходимое и благодетельное отпадение скорлупы созревшего ореха. И это у него не умозрение, а взгляд, подтвержденный опытом ежедневных душевных переживаний.
Жизнь телесных («личностных») пределов накладывается на духовную жизнь и вмещает ее, но не у всех людей одинаково: у одних вмещает больше, у других меньше. Интересно, что на рисунке Толстого обозначены не только кривые, очерчивающие область возможного заполнения духовной жизнью. Между рождением и смертью на нем проведена еще и прямая линия, не образующая пространство духовной жизни. Случайно ли сделано это? Или надо понимать так, что возможна и бездуховная жизнь? Или линия эта – своего рода условная ось бездуховности, нужная для отсчета духовных возможностей, предоставляемых земной материальной жизнью в каждом конкретном случае?
В том письме Черткову от декабря 1899 года, где Лев Николаевич говорит, что он «очень полюбил болезнь – то состояние, которое, разрушая эту форму, приготавливает к вступлению в новую», он пишет:
«Содействовали много этому те последнее время все больше и больше занимающие меня и уясняющиеся мысли о жизни, в которой смерть есть только один из эпизодов, которые я надеюсь изложить ясно. Может быть, они помогут и другим людям так же, как помогают мне и жить и, идя ей навстречу, ожидать такую нестрашную, а радостную смерть"(88.185).
Общечеловеческая ценность и важность ясного изложения такого учения о жизни несомненна. Но цельного произведения на эту тему Толстой не оставил. Быть может, потому, что он сразу же решил, что ему «не надо (да и некогда), главное, не надо писать систему»(54.73). Но еще и потому, что в нем из-за непрекращающегося духовного роста никогда не было той стабильности, которая необходима для создания цельной системы. Мы увидим, что мистические представления его год от года изменялись, и постараемся привлечь внимание к тому, что постигал Лев Николаевич, находясь на этой вершине жизни.
6 (57)
Для ясного изложения учения о жизни необходимо столь же ясно понять: что есть жизнь сама по себе. О сущности жизни голос во сне Пьера ничего не говорил. «И пока есть жизнь, – сказал он, – есть наслаждение самосознания Божества. Любить жизнь, любить Бога». Бог наслаждается Своим Сознанием, пока есть Жизнь, то есть Сам Он. Основное духовное наслаждение, наслаждение сознания, неотделимо от Бога и Жизни. Наслаждение Божественным Самосознанием есть Любовь. Любить жизнь (наслаждаться ею) значит любить любовью Бога и любить Бога. Вот та мысль из «Войны и мира», которая впоследствии заложена в трактат «О жизни». Если «наслаждение» заменить «желанием блага» и «истинной любовью», а «самосознание Божества» – «разумным сознанием» и «разумом», то связь мысли из «Войны и мира» и основополагающих мыслей «О жизни» становится самоочевидной.
И в «О жизни» и в «Христианском учении» твердо постановлено: жизнь есть любовь. Так это говорилось Толстым и в 1901 году. Правда, в новой редакции. Прежняя формула «жизнь есть желание блага» или «жизнь есть любовь» теперь расширена:
«Жизнь, которую мы знаем, есть постоянное увеличение блага по мере увеличения любви. Это не только основное свойство жизни, но сама жизнь. И потому, если мы предполагаем жизнь за гробом, то эта жизнь должна быть в основе такая же, как и та, которую мы знаем, хотя и формах теперь непостижимых для нас»(54.106)..
Лев Николаевич тяжело болел до середины 1902 года. 6 – 7 февраля – почти безнадежное состояние. Записи в Дневник делала дочь Мария Львовна. Через два месяца, 10 апреля (кризис почти миновал) Толстой диктует дочери. Все тот же вопрос о двух вариантах спасения:
«Вопрос в том для нас: сольётся ли моя отдельная жизнь с бесконечным потоком жизни, или опять примет новую отдельную форму? В первом случае это верх невообразимого блаженства: нирвана, непосредственная жизнь в Боге. Во втором – это продолжение жизни в новой форме, обусловленное, по карме, моей здешней жизнью. Вопрос и страх в потере сознания своего «я» в обоих случаях не основателен. Но первый случай невероятен. Мы не имеем права предполагать жизнь вне отделенности, потому что не знаем такой. И потому остается только 2-й случай: новая форма жизни. Но предполагать новую форму жизни с удержанием сознания прежнего «я» мы тоже не имеем права, так как начали эту жизнь без сознания прежнего «я». Но сознание отделенного «я» зависит от пространства и времени. Переход же из одной формы в другую происходит вне пространства и времени. Мы пробуждаемся к новому сознанию (новой отделенности) сами не знаем из чего. Мы существуем вне времени и в той, и в другой, и в тысячной форме. «Прежде, чем был Авраам, Я есмъ»(54.128-9).
В последних фразах сказано что-то определенно новое, понятое совсем недавно, во время болезни.
Уже после болезни, в начале 1903 года, Толстой формулирует «особенно важное к определению жизни»:
«Жизнь есть сознание. Сознаний два: одно – низшее сознание: сознание своей отделенности от Всего; и высшее сознание: сознание своей причастности ко Всему, сознание своей вневременности, внепространственности, своей духовности, сознание всемирности»(54.173).
«Первое сознание – своей отделенности – я называю низшим потому, что оно сознается высшим духовным сознанием (я могу понять, сознать себя отделенным). Второе же сознание – духовное – я не могу сознать. Я сознаю только, что я сознаю, и сознаю, что я сознаю, что сознаю и так до бесконечности. Первое сознание (низшее) дает, вследствие своей отделенности, понятие телесности, материи (и движения и потому пространства и времени); второе же сознание не знает ни телесности, ни движения, ни пространства, ни времени, ничем не ограничено и всегда равно само себе. Вся задача жизни состоит в перенесении своего я из отделенного во всемирное, духовное сознание»(54.180).
И тут же (читая Франциска Ассизского):
«Жизнь есть сознание своего единства с Богом»(54.180), то есть жизнь не есть «низшее сознание», сознание отделенности, сознание человека, а есть сознание нераздельности, всемирности. Подлинно мы существуем в высшем сознании и из него «пробуждаемся*) к новому сознанию (новой отделенности)». Истинная жизнь всегда такая, какая есть – Жизнь Всего, Жизнь Бога, участником которой должен становиться человек. Этому служит и любовь, которая есть стремление сделать «свое сознание» сознанием Бога, слить себя с Ним:
«Любовь есть стремление захватить в себя Все, сделать свое сознание сознанием Всего. В пределах, в которых сознает себя человек в этом мире, это невозможно, и потому любовь указывает ему на иной мир, приближает его к иному миру, в котором осуществится его стремление, когда разрушатся пределы – здешняя жизнь, препятствующая осуществлению его стремления»(54.167). Такова любовь к Богу, сливающая в единое целое Бога и высшую душу человека.
Общий вывод – любовь не основополагающее, а производное начало жизни:
«Любовь не есть главное начало жизни. Любовь последствие, а не причина. Причина любви – сознание своей духовности (то есть сознание нераздельности, Сознание, которым обладает Бог. – И. М.). Это сознание требует любви, производит любовь»(54.186), – конечно, агапическую любовь, которая, как в те же дни разъясняется, «есть признание собою всех существ мира»(54.183).
Эти мысли образовали исходную позицию, с которой Толстой в 1903 году пытается в тезисах изложить свое понимание жизни. «Все это наброски мыслей неясные и часто не верные»(54.176), – предупреждал Лев Николаевич. Но вышло недоразумение. Чертков принял черновики тезисов за нечто завершенное и опубликовал их (вызвав легкое неудовольствие Толстого*)) сначала отдельной статьей под названием «О сознании духовного начала», а через два года и в книжке «Посредника».
Последнее время «О сознании духовного начала»*) часто цитируют. Но это совсем сырой материал. Исследователю надо пользоваться им осмотрительно. Когда издателям стало известно, что Толстой работает над «определением жизни», то к нему стали поступать предложения о публикации. Лев Николаевич твердо отвергает их:
«Работа эта слишком мне близка, важна для меня и не кончена (кончена она никогда мною не будет), и не присоединено к ней то, что нужно, и не приведена она в большую ясность»(74.225).
Сознание Богом Себя в отделенности и сознание человеком Бога в себе источником своей истинной жизни, истинным началом себя суть два взгляда с двух сторон на одно и то же. Одно разъясняет другое. Но Толстому важно указать на то, что истинная жизнь везде и во всем одна и та же, что жизнь как таковая есть жизнь Бога. Определение жизни во сне Пьера, по которому жизнь это наслаждение Божества Своим сознанием, через 45 лет превратилось в определение жизни, по которому жизнь есть сознание Бога (неизменного духовного Существа), находящегося в состоянии отделенности от Самого Себя. Лев Толстой ищет точную формулу жизни как таковой. С нее он и начинает изложение:
«I. Жизнь есть сознание неизменного духовного начала, проявляющегося в пределах, отграничивающих это начало от всего остального». Так сказано весной 1903 года. Запись Дневника 16 июля 1903 года вносит существенную поправку:
«Я говорил и думал прежде, что жизнь есть сознание. Это неправда. Жизнь есть то, что открывается через сознание, и она всегда и везде есть, т. е. вневремена и внепространствена. Наше заблуждение в том, что мы то, что скрывает жизнь, принимаем за жизнь»(54.186).
Впрочем, через два месяца в письме к Г. А. Русанову Толстой вроде бы возвращается к прежней формулировке:
«Главная, основная мысль моя та, что жизнь — только в сознании. Без сознания мы не имеем права говорить о жизни».
Но при этом объясняет:
«Для понимания жизни неизбежно выбрать одно из двух: или признать жизнью свое временное существование… или признать то, что кажется сначала странным, но что вполне ясно, точно и разумно, — что наша жизнь есть наше сознание себя вечным, бесконечным, т. е. безвременным и непространственным духом, ограниченным условиями временных и пространственных явлений".
На первый взгляд ничего нового нам не сообщено. Нет, – оказывается, сообщено.
«Я так представляю себе*):
Параллельные линии, теряющиеся в обе стороны, не имеющие ни конца, ни начала, это истинная, духовная, Божеская жизнь. Соединяясь с нею, познаем то, что имеем право назвать жизнью. Фигурки, начинающиеся рождением, более или менее часто соприкасающиеся с вечной истинной жизнью, это жизнь людей с точки зрения внешнего наблюдения. Чем больше человек соприкасается с истинной жизнью, тем больше у него жизни. В стремлении к наибольшему соприкосновению задача совершенствования. Лучшая жизнь та, когда, как в последней фигуре, она сливается с вечной жизнью, и смерть уничтожается. В этом стремлении сущность жизни человека. Зачем это? Не знаю. Знает Тот, Кто владыко жизни, Кто — сама жизнь.
Простите за всю эту чепуху. Всё это в таком зародышном и уродливом виде позволяю себе писать только Вам. Пишу потому, что эти смутно, неясно выраженные мысли для меня важны, и я живу ими»(74.244-5).
В 80-х годах и, наиболее отчетливо, в середине 90-х годов Толстой помещал Божественное начало внутрь структуры человека и задачу совершенствования видел в перенесении Я в свою высшую душу, в Бога своего. Теперь Божественное начало выносится из структуры человека, так что речь идет о соприкосновении одной, земной человеческой жизни с другой, Божеской жизнью, о вынесении своего Я в нее – о непосредственном слиянии человеческой жизни с жизнью Бога. Не только смерть, но и рождение теперь не имеет значения. Значение имеют только точки соприкосновения с вечной жизнью.
В записи Дневника от 24 ноября 1903 года представление о двух жизнях выражено еще яснее:
«Две жизни, которыми живет человек, можно графически изобразить так:
Написано поперек: «Рождение]”, «смерть]»;
в строку: «или так»;
опять поперек: « Рождение]»,. «смерть]»
Пунктирные линии обозначают телесную жизнь: рождения, роста, старения и смерти, уничтожения телесной жизни; черные же линии, идущие в обе стороны, обозначают вечную, истинную, неумирающую духовную общую жизнь.
Проживая свою телесную жизнь, человек раньше или позже соприкасается с вечной жизнью*), и переносит в нее свое я. Тогда жизнь телесная уже совершается без его признания ее своим я. Телесная жизнь представляется ему нереальной не только в будущем, но и в прошедшем. Как скоро человек достиг до настоящей жизни, он бросает уже не нужную ему жизнь телесную. Она была ступенью для подъема до истинной жизни и не нужна более: она лестница. Она временна, в ней есть прошедшее и будущее, т. к. имеет цель доступную человеку; жизнь же истинная, духовная, общая, изображаемая черными, тянущимися в обе стороны бесконечными линиями, не имеет цели, доступной человеку и потому для нее нет времени.
Слияние телесной жизни с вечной, достижение посредством телесной жизни, жизни вечной, иногда совершается незаметно, иногда порывами, иногда рано, иногда поздно. У меня было порывом. Блаженное время.*) Думаю, что слияние это совершается для каждого человека. (Вот и все. Как умел, сказал, но знаю, что это так)»(54.197-8).
Задача жизни человека достигается посредством телесной жизни, жизни пределов отделенности. Но дело вовсе не в расширении пределов, а в процессе слияния линии жизни человеческой с линией жизни Божественной.
«Я прежде думал, что сущность жизни человека состоит во все большем и большем расширении пределов. Но это неверно, не может быть. В чем сущность жизни не дано нам знать. Одно, что мы знаем, это то, что все совершенствование человека состоит в наибольшем слиянии с непостижимой для него вечной жизнью; во все большем и большем слиянии своей линии жизни с теми двумя параллельными бесконечными линиями, которые влекут его к себе. Идеальная жизнь такая
(Бестолково, но мне нужно)» (54.199).
В середине апреля 1902 года вариант слияния человеческой жизни с жизнью Божественной даже после смерти признан «невероятным» – «потому, что мы не знаем такой» жизни. Теперь же, всего через полтора года, этот вариант «знаем», и в такой степени, что уже в земной жизни признается нормальным в качестве отдельных соприкосновений, а в качестве полного слияния – «идеальным». Поразительная перемена.
Жизнь истинная, вечная изображена на рисунках Толстого не в пространстве между параллельными линиями и не «над» или «под» ними. Божественная жизнь есть всегда и везде – показать ее нельзя. Но «с точки зрения внешнего наблюдения» и в отношении земной жизни человека она изобразима «параллельными линиями, теряющимися в обе стороны, не имеющими ни конца, ни начала", линиями, с которыми земная жизнь может соприкасаться. При таком соприкосновении человеку через высшее сознание «своей причастности ко Всему, сознание своей вневременности, внепространственности, своей духовности» открывается Вершина жизни, к которой всегда стремился Лев Толстой. И теперь, надо полагать, реально приближается к ней.
Читая и раз за разом перечитывая Дневники Толстого этих лет, все отчетливее создаетсяь впечатление, что Толстой занят не столько тем, чтобы на основании своих прозрений дать ясную формулу жизни, сколько пробует уяснить – и более всего для самого себя, – то новое состояние сознания себя живущим, в котором он (возможно, неожиданно для себя) оказался.
Это свое редкостное состояние сознания жизни он, по своему обыкновению, выставляет нормой и осмысливает всю человеческую жизнь с точки зрения этой нормы. Ему даже кажется, что каждый человек способен посредством телесной жизни достигнуть жизни вечной, что телесная жизнь и существует этого только ради. Более того, что сочленение смертной телесной жизни с вечной жизнью всегда, рано или поздно, совершается в жизни любого человека. То, что сами люди такого не замечают и Льву Николаевичу надобно объяснять им, есть результат недомыслия и недоразумения.
И в последующем Толстой (в письмах, разговорах, статьях, книгах) признавал возможность перехода из Обители в Обитель, но его самого этот «вариант спасения» интересовать явно перестал. Сам он устремлен уже не туда. Он взлетает к Вершине Жизни, к Богу, Который непосредственно питает Птиц Небесных.
7 (58)
«C точки зрения внешнего наблюдения» низшее сознание человека (сознание телесности, своей отделенности) рисует между параллельными линиями вечной жизни фигурки расширяющихся пределов земной жизни. Само по себе расширение пределов не предоставляет пространство для вечной жизни, не впускает ее в пределы и в этом смысле не имеет значения. Значение имеет только такой вид превращения пределов, при котором земная жизнь входит в соприкосновение с линиями вечной жизни. Что, как хорошо знает Толстой, нередко происходит в результате переносимых страданий:
Вот несколько записей из толстовского «Круга чтения» на 23 марта:
«Ищи в страданиях их значение для твоего душевного роста, и уничтожится горечь страдания».
«Страдания необходимые условия роста как физического, так и духовного».
«Признак роста есть страдание. Не может без страдания перейти жизнь из одной формы в другую. Не может, потому что самое страдание вызывает рост».
Запись из Дневника 1903 года:
«Лишения, горести, страдания (не только тех, кто умеет воспользоваться ими, но всех) загоняют из области низшей, исполненной лишений и препятствий материальной жизни, в область духовной жизни — радостной и свободной. Из этого не следует, чтобы надо было искать страданий, но то, что они, как и всё в мире, для человека благо. Страдания регулируют нашу жизнь. Ацетиленовые фонари устроены так, что карбид, прикасаясь к воде, развивает газ. Когда же газа слишком много, он поднимает карбид, и образование газа прекращается. Так же и материальная жизнь: когда она слишком наполнится страданиями (свойство ее в том, чтобы производить страдания), сознание и внимание поднимается, переходит в область духовную, и страдания прекращаются»(74.81-2).
Впрочем, часто такое случается или редко или вообще не случается, но вся остальная земная жизнь – не в счет. Она есть то, «что скрывает жизнь» истинную, и что мы лишь «принимаем за жизнь», поскольку и земная жизнь обладает сознанием. Поэтому сознание земной жизни Толстой иногда называет личностным сознанием или сознанием личной жизни.
"Ведь в этом жизнь, чтобы заменить сознание своей личной жизни сознанием Бога"(75.225).
К своей земной жизни, к жизни пределов отделенности людям следует относиться как к «лестнице», посредством которой может совершаться подъем к истинной жизни. Взбирается по этой лестнице – «Я» человека. Как только «Я» достигло до последней ступени лестницы и вступило в соприкосновение с истинной жизнью, разъясняет Толстой, так «Я» отбрасывает лестницу, «бросает уже не нужную ему жизнь телесную», и она, продолжаясь в пространстве и времени, «представляется ему нереальной не только в будущем, но и в прошедшем». Толстой, несомненно, сам знаком с этим явлением и делится с нами своим опытом. В соответствии с его собственным трансперсональным опытом истинная жизнь, изображенная им при помощи уходящих в бесконечность двух параллельных линий, неподвижна. Движение жизни происходит только в фигурках земной жизни, которая с позиции истинной жизни нереальна «не только в будущем, но и в прошедшем». Поэтому всякие движения человеческой жизни по сути своей иллюзорны.
Все люди, собственно говоря, сознают одно и то же, пишет Толстой Черткову в декабре 1903 года. – «То, что одно есть, одно реально и как будто движется, как будто растет, в сущности же кажется растущим во мне, давая мне этим возможность жизни и блага. Мне мысли эти дороги, и Вы, надеюсь, поймете меня»(88.314).
Однако «без движения нет отделения. В сущности же мы, как и Бог, стоим неподвижно, и нам только кажется, что мы разрываем, расширяем пределы. В этом жизнь. Бог нами дышит»(55.3).
Когда прежде Толстой говорил о расширении пределов и видел в этом смысл жизни человеческой, то он имел в виду личное совершенствование усилиями любви, самоотречения, преодоления суеверий, соблазнов и грехов. Это и теперь, конечно, не утрачивает смысл, но отходит на другой план. Что требует иного, чем прежде, символа Веры.
« Движение есть иллюзия, необходимо вытекающая из нашей отделенности. Признать смысл жизни в нашем отдельном совершенствовании (расширении пределов) нельзя, потому что всякое совершенствование, всякое расширение есть ничто среди бесконечного пространства и времени; признать смысл жизни, как я это делал прежде, в прогрессе – единении существ, опять нельзя, потому что опять всякое единение ввиду бесконечности пространства и времени есть ничто. Так что жизнь наша есть движение только для нас, но в действительности жизнь неподвижна.
Для чего-то я есмъ отделенное от всего другого духовное существо, которому кажется, что оно между рождением и смертью движется среди движущихся существ. Существу этому (живется. – И. М.) несомненно твердо, хорошо только в той мере, в которой оно сознает свою духовность. Сознание же этой духовности кажется ему расширением его пределов. И потому я признаю это сознание своей духовности или расширение пределов своим законом, или волей Того, кто поставил это духовное существо, составляющее мою жизнь, в условия отделенности. Отделенность духовного существа и кажущееся расширение своих пределов не имеет для меня никакого смысла, но смысл этот, недоступный для меня, должен быть и есть. – В этом-то, в том, что жизнь моя имеет непонятный для меня, но глубокий смысл, в этом истинная и необходимая людям вера. Я верю, что есть Тот, для Кого моя жизнь имеет смысл, и есть смысл в моей жизни»(55.4-5).
Такова новая Вера, которая позволяет Толстому занять прочную жизненную позицию в новом состоянии сознания себя живущим на свете.
«Какое заблуждение и какое обычное: думать и говорить: я живу. Не я живу, а Бог живет во мне*). А я только прохожу через жизнь или, скорее, появляюсь в одном отличном от других виде… Бог живет во мне или, скорее, через меня или, скорее: мне кажется, что есть я, а то, что я называю мною, есть только отверстие, через которое живет Бог»(55.6).
Однако этим положением представление о «Я», как о духовном существе, не утрачивается.
«Я – духовное и потому внепространственное, вневременное, бесконечное, вечное существо, отделенное от своего начала (знаю, что слово и понятие отделенности есть понятие временно-пространственное, но не могу иначе понимать). И это отделенное существо рвется из своих пределов, как сжатый газ; и в этом жизнь, что оно, сознавая свою духовность, свое единство со Всем, стремится соединиться с ним. В этом стремлении, усилении сознания, в этом трепетание Божеской жизни»(55.9).
«Мы трепещем в мире, и это трепетание есть жизнь и благо»(55.167).
«Трепетание жизни» у Толстого второй половины 900-х годов – это и положение самой высшей силы Жизненности в отделенности, и образ существования жизни в человеке. Жизнь вообще всегда находится в трепетании: то разгорания, то угасания, в каждомоментной готовности вспыхнуть или погаснуть, ожить или умереть, всегда находится в состоянии пограничности, в самонеустойчивости и самоненадежности – в полной своей зависимости от своего Начала. Трепетание самосознающей жизни в человеке при соответствующем «усилении сознания» в нем неизбежно переходит в трепет перед Богом.
Вот на таком пике «усиления сознания», переживания «трепета» жизни в себе перед Богом и переживания «трепетания Божеской жизни» в себе у Толстого возникают те мысли, которые с его подачи будут в более определенном и несколько огрубленном виде положены его учеником П. П. Николаевым*) в основание учения "духовного монизма". Но тут мы предоставляем слово самому Толстому:
«Мир состоит из отделенных частей Божества. Отделенность дает материальное движение. Только уничтожься материя – и нет отделенности. Точно так же уничтожься движение – и нет отделенности. И потому материя и движение существуют только для нас, для отделенных существ. Для Бога нет ни материи, ни движения, но есть бесчисленное количество отделенных существ, которые мы можем познавать только в пространстве, т. е. ограниченно, и во времени, т. е. в настоящем и отчасти в прошедшем. Для Него же, для Бога, они все, отделенные существа, существуют без пространства и времени.
Все отделенные существа по свойству своему стремятся расшириться и перейти в другую, высшую отделенность. В этом наша жизнь. Для Бога же они уже расширились и перешли в другую и третью и в бесконечное число форм жизни. Мы же всё это переживаем. И в этом жизнь и благо.
В сущности, для Бога всё стоит, всё неподвижно и бестелесно, но есть жизнь. Какая? Мы не можем понять и знать. Наша же жизнь состоит в переходах из одной жизни в другую, вечное движение, вечное воскресение, вечный рост.*) Но хотя жизнь наша и духовна, и материя и движение – условия нашей отделенности, жизнь в этом мире не только не призрак, но самая настоящая единая жизнь, и цель нашей жизни – служение той общей жизни, которую мы знаем»(55.12-13).
И наконец:
«Для себя я – одно цельное существо, составленное из меня, прошедшего через время; для высшего же существа я – только выражение его ограниченного сознания. Трудно понять, но так»(55.14-15).
Толстой ищет понятийную формулу, выражающую его состояние жизни и вместе с тем существование вообще, Существование как таковое, формулу, включающую Бога и мир, жизнь и смерть, материю и сознание, смысл и цель, время и пространство, человеческую личность и Божественное «Я». Человеческое «Я» определено здесь как выражение «ограниченного сознания» Бога, сознания Самого Бога в отграниченности.
«То, что я называю своим телом, своим организмом, есть то отверстие, через которое я сознаю. Уничтожь организм – закрывается отверстие… Смерть – это захлопнутое окно, через которое смотрел на мир, или опущенные веки и сон, или переход от одного окна к другому»(55.17).
«Для Бога всё, что было и будет, всё это есть, все сливается в Его жизни, как в моей жизни сливается в одно всё мое прошедшее, настоящее и (сливается, наступая) будущее»(55.24).
Как человек не в силах обнять в одно и то же время настоящее, прошедшее и будущее, «точно так же человек не в силах совместить сознание тела, души и Бога; а они совмещаются в его жизни и живут одновременно в нем»(55.23).
«Вся загадка, вся трудность, весь узел определения жизни в том, что жизнь есть сознание настоящего мгновения, и вместе с тем моя жизнь есть жизнь всего мира и в пространстве и во времени, но я не могу ее сознать всю (как может, должен сознавать Бог), но сознаю ее по частям во времени и пространстве. Я – и я в 50, и 30, и 20 лет, и 10, и во время рождения, и до рождения, и в отце, деде, прадеде и во всем существующем. Все это во мне уже есть. И все, что будет со мной при жизни и после смерти, всё это уже есть, но я только не пережил еще этого, но переживу. И только от этого есть движение и материя, время и пространство. Опять на пределах откровения и бреда»(55.30-31).
Не мудрено, что иногда Толстому кажется, что он уже перешел грань разрешенного человеческому пониманию.
«Мне становится страшно, что я заглядываю туда, куда не следует заглядывать»(55.20).
8 (59)
К началу июня 1904 года Толстой осознает, что то, что он переживал последнее время «на пределах откровения и бреда» есть переход еще на одну новую и высшую ступень сознания Жизни.
«Все последнее время не только не ослабляется во мне сознание своей причастности Божеству, но усиливается и помогает жить и делать легко то, что прежде делал с трудом. Боюсь ошибиться, но мне кажется, что я начинаю переходить на новую ступень сознания, жизни в Боге, жизни Богом. Начинаю чувствовать не только возможность*), но естественность такого состояния. Еще шатко, но могу уже стоять»(55.39).
Мистическое творчество Толстого – не плод умозрения или интуиции. «Человек, – учит Толстой, – познает что-либо вполне только своею жизнью»(55.29). Мистика Толстого опирается на его опыт духовной жизни, на его собственную практику жизнесознавания и духовного роста. Еще в начале года Толстой жил, как Ной, «перед Богом»(55.6), теперь же он чувствует в себе жизнь «в Боге», начинает, хотя «еще и шатко», «жить Богом», в обладании сознанием Бога, в Его Свете.
Всё, что ни скажет Толстой теперь, в этом состоянии «жизни Богом» всё – чрезвычайной важности.
Еще недавно Толстой «представлял себе сознание, как ограниченное отверстие в шару. Сначала границы этого отверстия представляются телесным существом, потом то, что составляет содержание этого отверстия, представляется духовным существом, и под конец самое содержание шара, все содержимое его признается собою. Так что высшее сознание возвращается назад в себя. Но это не так. – Решает он теперь. – Телесным существом представляются те пределы, которые ограничивают то, что сознается собою, потом признается то, что находится в пределах. Потом это как бы стекло или лед все утончается и утончается, и сознание переходит не назад, а вперед, в высшую сферу. Все это чепуха, но не могу отстать»(55.30).
Не может отстать и через день пишет:
«Сначала кажется, что я – материальное (я принимаю свои пределы за себя), потом кажется, что я – что-то духовное, т. е. что-то, как материалисты говорят, что-то из тонкой материи, отдельное. Потом сознаешь, что ни материального, ни духовного нет, а есть только прохождение через пределы вечного, бесконечного, которое есть Все само в себе и ничто (Нирвана) в сравнении с личностью»(55.31).
Чтобы правильно воспринимать то, что говорит Толстой, надо помнить, каково теперь значение «личности» и «Я» в его терминологии и каково различие этих терминов.
«Если есть бессмертие, то оно только в безличности. Истинное Я есть Божественная бессмертная сущность, которая смотрит в мир через ограниченные моей личностью пределы. И потому никак не могут остаться пределы, а только то, что находится в них: Божественная сущность души. Умирая*), эта сущность уходит из личности и остается чем была и есть. Божественное начало опять проявится в личности, но это не будет уже та личность. Какая? Где? Как? Это дело Божье»(55.24).
В соответствии с новым состоянием духовной жизни и новым пониманием ее в 1904 году, фундаментально изменяется данная год назад в «О сознании духовного начала» формула жизни.
«Разница моего первого понимания и теперешнего, и великая разница, в том, что духовное существо, Бог, не может быть ограничено, не может быть частью; сознание же этого духовного существа может быть ограничено»(55.16).
«Сознание в нас, — не сознание, а то безвременное, внепространственное начало жизни, которое мы сознаем, — неподвижно, нетелесно, вневременно, внепространственно. Оно одно неизменно есть, и жизнь состоит в том, что мы все яснее и яснее, полнее и полнее сознаем его. Сознаем же его яснее и полнее потому, что не сознание растет, — оно неизменно, — а скрывающие его пределы утончаются. Как бы темная, густая туча, сквозь которую с трудом просвечивает солнце, двигаясь, заслоняет солнце все более и более светлыми частями, и солнце выплывает из нее. Тоже с нашей жизнью. В этом все движение жизни. Нам кажется, что движемся мы, а это движется то, что скрывает от нас нашу истинную сущность»(55.48).
В конце августа 1904 года на первый план выходит понятие «просветления».
«Мне вполне ясно, близко стало то, что жизнь есть просветление, снимание покровов с сущего. Оно стоит неподвижно, но вокруг него все просветляется, снимаются покровы, оно познает все новое и новое, и ему (сущему? – И. М.) кажется, что оно движется и что его жизнь в этом движении. Если бы оно было одно, то просветление это было бы просветление, а не казалось бы движением. Но оно не одно, оно просветляется среди различно просветляющихся существ, и эти различные степени просветления дают понятия движения во времени, которое есть только отношение просветлений… Сравнить это можно с теплом, светом, заключенным в оболочки льда, вообще тающего от тепла вещества различной толщины. Я одна из таких частиц тепла и света и, по мере таяния оболочки, вижу все более и более другие частицы тепла, растопляющие свои различной толщины оболочки»(55.82).
«О том же, о просветлении: Я, постепенно просветляясь (живя), выражаю себя... Я не могу и должен не мочь понять все. Но я знаю направление и движение, знаю, главное, что я, истинный я, не бесконечен, не бессмысленен, но сущий и стою неподвижно, а то, что мне кажется, что я движусь и все движется, есть только просветление, в чем жизнь. И это важно и нужно. (Дурно написано, но для меня и для тех, кто войдут в мой ход мыслей, понятно.)»(55.84).
«Если же жизнь есть и вне времени, то для чего же она проявляется во времени и пространстве? А для того, что только во времени и пространстве, т. е. в состоянии отделения себя от Всего, может быть жизнь, т. е. движение, то есть, стремление к расширению, просветлению. Если бы не было отделения частей, не было бы движения, не было бы жизни. Бог, говоря общепринятым языком, был бы неподвижный, один; теперь же Он живет с нами, нами – всеми существами мира… Без ограничения пространства и времени не было бы нас, не было бы блага нашей жизни, состоящей в расширении, просветлении»(55.92).
Вся «жизнь представляется в освобождении духовного начала от оболочки плоти», считает Толстой. Но это освобождение духа от плоти не то, что бы происходило или произошло, а есть. И человек, каким он стал теперь, и жизнь всего мира теперь – всегда была и есть такая, какая есть. Есть, но делается. Вот сущность «просветления».
То, что есть, «открывается мне по мере моего движения по жизни. Это есть, а я делаю это. В этом жизнь. Жизнь моя открывает мне меня самого. В этом открытии себя и есть жизнь. Вся моя жизнь есть один поступок. И поступок этот совершен. Я только не знаю его. – Что же, стало быть, человек не свободен? – Отчего? Я делаю себя и жизнь. И то, что я делаю, этого самого хочет Бог»(55.120-1).
Через несколько дней Толстой записывает слова, которые он потом повторял не раз. Мы приведем их в том виде, в котором они сказаны впервые:
«Вся моя жизнь от рождения и до смерти – не смотря на то, что я могу находиться в начале или в середине ее – уже есть; и то, что будет, так же несомненно есть, как и то, что было. Так же есть и всё то, что будет с человеческим обществом, с планетой землей, с солнечной системой; я только не могу видеть всего, потому что я отделен от Всего. Я вижу только то, что открывается мне по мере моих сил. Я живу и, переходя из одного состояния в другое, вижу (так сказать) внутренность жизни. И, кроме того, главное, имею радость творчества жизни.
То, что всё, что составляет мою жизнь, уже есть, и вместе с тем я творю эту жизнь, не заключает в себе противоречия. Все это есть для высшего разума, но для меня этого нет, и я имею великую радость творить жизнь в тех пределах, из которых не могу выйти. Если допустить Бога (что необходимо для рассуждений в этой области), то Бог творит жизнь нами, т. е. отделенными частями своей сущности»(55.123).
Ранее Толстой говорил, что Бог дышит нами или живет нами, как Своими клетками. Теперь: Бог творит нами жизнь – творит Свою Жизнь.
Из мысли творчества жизни тотчас вырастает мысль о «Я» человека:
«Если будет жизнь – где бы и какая бы она ни была или иначе, если есть жизнь, то есть и я. Жизнь это – я. Без меня нет жизни. Это очень важно. Это ответ на вопрос: кончается жизнь со смертью? Если бы с уничтожением я, т. е. сознания, уничтожалась жизнь, то я бы сказал и знал, что уничтожается и я. Жизни нет без я. Когда я вижу, что человек умирает, и мне перестают быть видимы проявления его сознания, то это не доказывает того, чтобы уничтожилось то, что сознает*)»(55.124).
Пройдет год и Толстой доведет эту мысль до необходимой ясности:
«Все открывается, открывается, пока живешь, одним и тем же постоянным темпом. Но наступает смерть, и или перестает открываться то, что открывалось, или перестает видеть тот, кому открывалось. Тот же, кому открывалось, не может не остаться, потому что все, что было, было только потому, что он был. Он один есть»(55.246).
16 апреля 1905 года Толстой отмечает в себе новое качество:
«Бывает это последнее время такое – минутами – ясное понимание жизни, какого никогда прежде не было. Точно сложное уравнение приведено к самому простому выражению и решению»(55.134).
Через месяц, 24 мая:
«За последнее время все яснее и яснее представляется мне смысл, т. е. мое и всех людей положение в жизни. Иногда так ясно, что жутко»(55.140-1).
Это «яснее и яснее» относится и к тому, что недавно Толстой называл «философским бредом».
«Вещество – это предел, в котором заключено нераздельное духовное начало; движение есть то, что выражает (проявляет) единство, нераздельность духовного существа. Не будь вещества, не могло бы быть отделенности духовного существа. Или иначе: Отделенность духовного существа представляется веществом. Не будь движения, отделенное существо не было бы единым со Всем. Или иначе: единство отделенного существа представляется движением. Не будь нераздельного духовного существа, заключенного в пределы, не было бы жизни. Жизнь есть единство в разделенности, или разделенность в единстве»(55.136-7). «Все в одном»(55.143).
Запись в Дневнике о положении человека в жизни. Обратите внимание на совсем не дневниковую четкость и обдуманность формулировки.
«Люди учат других, уговаривают их…*) все это недоразумение. Человеку никак ничего нельзя внушить, еще меньше человек может заставить сам себя что-нибудь пожелать, понять, полюбить, даже сделать. –
Сам человек над собой ничего не может сделать. Он изменяется, переходя из сознания животного в сознание духовное, и эти изменения ему кажутся самопроизвольными. Но это не так: человек так же подлежит неизменным законам в области телесной, как и в области духовной. Разница только в том, что в области телесной он страдает, а в области духовной испытывает постоянное благо… И потому человек не может сам на себя воздействовать. Только другие могут воздействовать на него, и он может воздействовать на других в области духовной. Воздействие в области духовной состоит в воссоединении себя со Всем. Чтобы воздействовать на другого, надо только помогать ему выйти из своего одиночества и соединиться со всем духовным миром прошедшим, настоящим и будущим. (Соединение с будущим есть то, что мы называем идеалом). Самому же надо укрепляться этим единением»(55.141-2).
Отсюда – практический вывод:
«Ты только передаточное орудие, через которое действует сила Божья. Твое дело только в том, чтобы держать в порядке орудие – себя, свою душу»(55.146). Ибо «Он проявляется через всех нас и не исключительно и больше через кого-нибудь одного, а через всех: в одном в одно время и для одних людей, в другом в другое время и для других людей. Все мы равны, все – органы Бога; в одном он больше открыт в одно время, в другом – в другое. Так и надо смотреть на людей, на всех людей»(55.174).
«Человек, живущий духовным сознанием, не может быть несвободен: он живет в Боге. Но приходит человек в духовное сознание не по своей воле»(55.152).
«Все совершающиеся изменения в жизни людей, все существенные – совершаются по духовным причинам. Но это не только не значит того, что изменения эти произвольны, но, напротив, показывает, что они непроизвольны, т. к. изменения духовные вне власти человека – они сама жизнь»(55.155).
И наконец, еще одна, следующая, формула жизни:
«Всем отделенным существам открывается их духовная сущность постепенно. И это открывание есть то, что мы (для себя) сознаем жизнью, движением жизни»(55.154).
«Мы видим будущее на длину видимого нами прошедшего. Ребенок – на длину месяцев, года, муж – десятилетий, старец – полустолетий, и перед самым концом, как я, уже видит за пределами жизни»(55.159).
«То, что мы называем движением нашей жизни, есть только снятие с нее тех покровов, которые скрывают нам часть ее. Так же, как выступание предметов, прежде залитых водой, когда она сбывает, кажется нам движением этих предметов»(55.160).
Общее понимание жизни, как оно сложилось у Толстого в 1905 году, изложено им в письме В. Г. Черткову:
«То, что я считаю собою, есть сознание Божественного начала, которое проявляется в одной части Всего. Часть эта ограничена пределами телесности (материи) в пространстве, то есть что Божественное начало в пределах телесности сознает себя, и это я считаю собою. Это Божественное начало по существу своему свободно и всемогуще и также свободно и всемогуще и в пределах телесности, потому что оно проявляется во времени. Эти-то проявления Божественного начала в пространстве и времени и есть то, что мы называем своей жизнью… Божественное начало изменяет и творит жизнь, смотря по степени своего сознания того, что я называю собою.
Сознание может быть низшее, животное, руководящее всеми движениями существа, может быть и более широкое, семейное, родовое, общественное, борющееся с сознанием личным, животным. И, наконец, может быть сознанием высшим, несовместимым с проявлением его в пространстве и времени, и тогда жизнь кончается.
Во всяком случае, жизнь изменяется и направляется вследствие изменения сознания. Сознание же всегда всё более и более расширяется.
Так что жизнь есть освобождение (всё большее и большее) сознания своей Божественности.
Не началось сознание Божественности (выражающееся свободой) своего существа, заключенного в телесности, — не началась жизнь. Кончилось сознание своего заключенного в телесность Божественного существа — кончилась жизнь.
Умирает не то, что сознаваемо, а то, что сознает…
Всё дело в иллюзии себя, своего я, которого нет и никогда не было. Есть только Бог, и я его проявление, и чем больше я сознаю это (а вся жизнь неудержимо ведет к этому сознанию), тем мне легче, тверже и тем лучше всем, с кем я имею дело. Я только отверстие, через которое проходит жизнь (турбина). Я — ничто. То, что происходит, то всё, и я могу слиться с ним"(89.44-45).
В начале 1906 года в формуле жизни появляются новые мотивы.
Из записи от 18 февраля:
«2) То, что мы называем жизнью (своей жизнью, жизнью человека. – И. М.) есть постепенное обнаружение для нас, посредством времени, скрытой от нас цельности своей личности и доступной нам жизни мира. – Посредством времени открывается нам все наше существо и вся связанная с нами жизнь мира. (Ну, как бы сказать?) Без времени я в молодости, положим, до 16 лет, был бы только кусочек самого себя, теперь же я почти весь я, а когда буду умирать, буду весь я: сознаю себя всего. И мир, как я знал его (скажем) до 48 года, был нечто совсем другое, чем то, что я теперь разумею под жизнью мира. Конечно, и я, когда умру, все-таки буду сознавать только кусочек всего себя, и так же и с тем, что я познаю из жизни мира. Когда понял это, понял, что в этом всё большем и большем просветлении и расширении как отдельного сознания, так и сознания мира состоит жизнь и твоя и жизнь мира и что к этому она идет помимо твоей воли, то понятно, что самое лучшее, что я могу делать, это то, чтобы самому стремиться к этому просветлению, расширению, что самое лучшее, спокойное, радостное это то, чтобы самому содействовать тому, что делается помимо тебя: грести, плывя по течению.
3) Зачем это делается? Невольно спрашиваешь себя. Какая цель этого просветления сознания личного и сознания мира? Вопрос этот человеческий, т. е. свойственен существам, живущим во времени (причина и следствия ведь возможны только во времени). Для людей что-то совершается, и естественен вопрос: что будет из совершения. Для Бога же все совершилось или не начало совершаться, а все есть. Движение во времени и вытекающие из него вопросы: зачем, почему, свойственны только слабости человеческой»(55.195-6).
Через несколько месяцев – еще важное уточнение:
«Мое понимание жизни можно выразить так: жизнь человека это постепенное раскрытие его для самого себя среди окружающих его явлений, раскрывающихся для него по мере его раскрытия»(55.225).
К концу года мысль эта уясняется, все более обретает законченность, хотя все еще не удовлетворяет Толстого:
«Мне представляется, что я движусь, и весь мир движется, и я называю это временем, тогда как ничто не движется, а происходит только то, что я открываюсь сам себе вместе с открывающимся мне миром…
Моя жизнь со всем видимым из моей жизни миром раскрывается мне, но она всегда была и есть и будет; и моя смерть, о которой я знаю по наблюдению и сознанию, тоже уже есть. И есть все то, что сопряжено со смертью. Так что случиться со мной и со всем миром ничего не может, так как все уже есть.
Жизнь есть все большее и большее раскрытие того, что есть, и потому смерть должна быть тоже открытие, но открытие чего-то такого, чего мы не знаем и не можем знать, т. к. о том, что открывает жизнь, мы знаем по рассказам людей, о том же, что откроет смерть, ничего не можем знать.
Жизнь есть равномерное, постепенное раскрытие себя. При раскрытии я знаю в себе бесконечную, неограниченную силу, и сознание этой силы дает мне чувство свободы. Мне кажется, что то раскрытие, которое составляет мою жизнь, есть мое движение, и я делаю свою жизнь. Но я не делаю ее, а только имею радость участия в ней. Всё, что я сделаю, уже есть. (Все, что я делаю, это только одно из воспоминаний Бога.) Но я имею счастье сознавать себя участником жизни мира. (Не ясно, но я не отчаиваюсь.)»(55.271-2).
19 ноября 1906 года смертельно заболела особенно любимая дочь Маша. Кто-то испытывает Толстого, ставит ему экзамен на твердость и подлинность его сознания жизни. Вот хронология событий.
20 ноября Толстой, по воспоминаниям Маковицкого, рассказывал, что «он так ясно видел во сне, что Маша умерла»(55.576).
23 ноября, по записи Маковицкого: «сегодня утром и днем в полном сознании. Л. Н. очень встревожен и угнетен болезнью М. Л., как и все в доме. Сегодня, сидя у нее, плакал и сказал ей: «Терпи»(55.577).
Дневник Толстого от 23 ноября:
«Вообще чувствую одну из самых больших перемен, совершившихся во мне именно теперь. Чувствую это по спокойствию и радости и доброму чувству (не смею сказать: любви) к людям. Все почти мои прежние писания последних лет, кроме Евангелия и некоторых, мне не нравятся по своей недоброте. Не хочется давать их.
Маша сильно волнует меня. Я очень, очень люблю ее.
Да, хочется подвести отделяющую черту под всей прошедшей жизнью и начать новый, хоть самый короткий, но более чистый эпилог»(55.277).
26 ноября Толстой Черткову:
«У ней крупозное воспаление легкого, нынче 8-й день, и она очень, очень плоха. Смерть ее эгоистически для меня, хотя она и лучший друг мой из всех близких мне, не страшна и не жалка — мне недолго придется жить без нее, но просто не по рассуждению больно, жалко ее — она, должно быть, и по годам своим хотела бы жить; и жалко просто страданий ее и близких. Жалко и неприятно эти тщетные усилия лечением продлить жизнь. А смерть всё больше и больше, и в последнее время так стала мне близка, не страшна, естественна, нужна, так не противоположная жизни, а связана с ней, как продолжение ее, что бороться с ней свойственно только животному инстинкту, а не разуму»(89.50).
Мария Львовна Толстая умерла 27 ноября 1906 года.
«Сейчас, час ночи, скончалась Маша. Странное дело. Я не испытывал ни ужаса, ни страха, ни сознания совершающегося чего-то исключительного, ни даже жалости, горя. Я как будто считал нужным вызвать в себе особенное чувство умиления горя и вызывал его, но в глубине души я был более покоен, чем при поступке чужом – не говорю уже своем – нехорошем, не должном. Да, это событие в области телесной и потому безразличное. – Смотрел я все на нее, как она умирала: удивительно спокойно. Для меня – она была раскрывающееся перед моим раскрыванием существо. Я следил за ее раскрыванием, и оно радостно было мне. Но вот раскрывание это в доступной мне области (жизни) прекратилось, т. е. мне перестало быть видно это раскрывание; но то, что раскрывалось, то есть. «Где? Когда?» это вопросы, относящиеся к процессу раскрывания здесь, и не могущие быть отнесены к истинной, внепространственной и вневременной жизни»(55.277-8).
Когда умер брат Николай Николаевич, Толстому было 32 года. С тех пор прошло 43 года. Срок большой. Но все эти годы – лета зрелости, в которые человек растет преимущественно свободным духовным ростом. Дистанция духовного восхождения, которую Лев Николаевич одолел за эти годы в свободном духовном росте, одолел и без наставников, и без опоры на традицию такого восхождения, и даже без предварительно поставленной цели или задачи, исключительно самостоятельным путем, невероятна.
9 (60)
Толстой, как и прежде, убежден, «что жизнь есть зарождение нового сознания, а смерть – прекращение прежнего и начало нового»(55.172). Но теперь*) он догадывается, что жизнь будущая зарождается в этой жизни непосредственно в процессе духовного роста:
«Мне приходит мысль, что переход от жизни животной к жизни духовной, от радостей, интересов животных к радостям, интересам духовным, есть начало, зародыш нового отделенного духовного существа, еще не познавшего своих пределов, еще не пришедшего к сознанию. Когда же существо это придет к сознанию, ему представятся его пределы веществом так же, как и теперь в нашей жизни, и так же он поймет жизнь подобных ему существ, как и мы понимаем в нашей жизни»(55.171).
Смерть – это роды:
«Мы всегда инстинктивно ждем, ищем, желаем будущего, торопим его пришествие. Смерть, правда, приходит со страданиями и трудом перенесения их, но ничто хорошее не приходит, как роды (евангельское сравнение), без страданий. Но женщина, знает, что она рожает, не боится страданий и смело, радостно идет на них. Так же и мы должны встречать смерть. И это не слова, а я верю в это»(55.282-3).
Но все это – и возникновение зародыша, и роды в новую жизнь – происходит, «если понял и положил в этом жизнь», то есть при условии свободно совершающегося духовного роста. Что ж: без исполнения этого условия смерть есть смерть, «поглощение себя в ничто»? Свободный духовный рост, в конце концов, есть частный и весьма редкий случай в человечестве. А что же остальные люди?
На 75-м году жизни Толстой приходит к выводу, что человек (человек как таковой, всякий человек) живет своего рода «двойной жизнью», как два разных существа.
Жизнь наша "не кончается или, скорее, не ограничивается мирской, телесной жизнью от рождения до смерти. Так что мы живем здесь и своею отдельной жизнью и жизнью другого более обширного существа, включающего наши отдельные существования так же, как тело включает в себя составляющие его отдельные клетки. И потому наша деятельность на благо Всего не пропадает так же, как не пропадает деятельность отдельных клеток для всего организма. Смерть поэтому, может быть, есть только перенесение сознания из отдельной личности в более обширное существо, включающее в себя отдельные личности. И это вероятно потому, что вся жизнь человеческая есть все большее и большее расширение сознания»(56.13).
Это была запись в Дневнике. О том же самом в письме к Черткову Толстой «с полной несомненностью» высказывает убеждение «в том, что мы живем в этом мире и своей отдельной жизнью и жизнью другого, более обширного существа, включающего наши существования... Так что смерть есть перенесение сознания из личности этого мира в сознание иного, высшего существа, т. е. кажущегося мне высшим, и перенесение это совершается любовью. Все веры в бессмертие, в возмездие есть это самое. То же, что смерть есть только переход в иное, высшее сознание, особенно вероятно, потому что всякая жизнь есть не что иное, как все большее и большее расширение сознания и всё большее и большее увеличение любви»(89.61).
Человек живет и жизнью своей отдельной личности (в личных пределах отделенности) и жизнью «более обширного существа» (в более обширных пределах отделенности). Перенесение сознания из отдельной личности «в более обширное существо» совершается тогда и тем больше, когда и чем больше человек работает (работает, разумеется, любовью) на благо этого «более обширного существа». Кто же это существо? Это, может быть, и «люди вообще, всё человечество, весь мир, которого мы составляем частичное проявление» (там же), а может быть, и «Начало Всего». Толстой учитывает возможность первого, но развивает только второе предположение.
«Умирая, я перехожу в дальнейшую форму, высшую, т. е. более широкую, неподвижную, и сливаюсь с началом Всего, сознаю свою жизнь, неподвижную Нирвану. Смерть есть прекращение ограничения. Я весь тогда в травке, в слоне, в солнце, во всем – до тех пор, пока не буду опять ограничен»(55.223).
В общем случае человек, не совсем погубивший себя эгоизмом, сливается с Началом Всего и продолжает жить во Всем, «пока не буду опять ограничен». Это даже относится (или может относиться) не только к человеку, но и ко всякому существу.
«Мне представляется, что все существа совершают круги от рождения к смерти. Вот так:
* * *
Одна часть круга скрыта, но это только так кажется мне, потому что я не могу понимать сущностей, какие они действительно суть. Они не движутся, но стоят, но не такие, какие я понимаю»(55.228)
Одна, видимая часть круга жизни существа (которая «от рождения к смерти») – в Обители отделенности. Другая, «скрытая», часть круга жизни существа – не в Обители отделенности, в Обители нераздельности. В видимой части "круга" производится далеко не вся работа. Есть работа и в скрытой части, о которой нам, людям, ничего известно быть не может. Но это именно работа, а не отдых и блаженствование, как в раю.
В Обители нераздельности действующая часть (и большая часть?) жизни человека, только нам непонятная. Где же она? Быть может, во Всем – в не имеющем размеров живом, колеблющемся шаре, вся поверхность которого состоит из капель, плотно сжатых между собой и стремящихся разлиться? Когда читаешь о скрытой части круга (в которой идет непонятная кипучая жизнь «сущностей, какие они действительно суть»), то образ капель «живого глобуса» Пьера возникает сам собой. Образ этот (образ этот, собственно говоря, есть образ Обители нераздельности, в котором обитают чисто духовные существа-капли) никогда и не исчезал из сознания Толстого.
Из скрытой части круга жизни, с поверхности «живого глобуса» капля отправляется (посылается?) в навигацию Обители отделенности, рождается в нее, проходит в ней часть круга, что-то совершает и возвращается туда, откуда вышла, в Обитель нераздельности. Прозрение Толстого состоит в том, что человек живет вместе и «личной» жизнью той Обители отделенности, в которую он родился, и жизнью той «капли» Обители нераздельности, куда он возвращается.
Обителей отделенности может быть много, но это не имеет значения, так как каждая из них – «в круге», который замыкается в Обители нераздельности, в Боге. В Боге не при переходе из Обители в Обитель (как виделось прежде), а в Боге в результате процесса хождения «в круге».
«Умирая, я не вступаю в новое положение, а только возвращаюсь в то безвременное, беспространственное, бестелесное, бесформенное состояние, в котором был и из которого пришел в эту жизнь. (Хорошо.)
Нельзя даже сказать: «в котором был», а в то состояние, которое мне так же свойственно, в котором я нахожусь теперь»(56.125).
Высшая Обитель существования – это не новая Обитель отделенности, а Обитель нераздельности – нераздельности человечества*) или еще «более обширного существа». Все мысли Толстого теперь устремлены к этой Обители, – Обители Бога, в которой и истинная единая Жизнь, и подлинное единое Существование, которое для своих нужд может выходить в «круг», в Обители отделенности, чтобы возвратиться назад. Так что, «кроме Бога, ничего не существует»(56.44).
«Бог, все изменяющий и Сам не изменяющийся»(56.38).
«Вы спрашиваете, верю ли я в существование загробной жизни и в бессмертие души. Оба вопроса так неточно поставлены, что отвечать на них невозможно. Жизнь, как мы понимаем жизнь, есть только здесь и не может быть загробной; душа человеческая точно так же есть только явление здешней жизни и потому не может быть бессмертна. Бессмертно только то духовное начало, которое составляет сущность и основу всего, что есть, и которое мы чувствуем в самих себе. Духовное начало это мы называем Богом. Если мы сливаем с ним свое существование, что совершается тем, что мы исполняем требования этого начала (Бога), сознаваемого в самих себе, то не может быть и речи об уничтожении того, что соединено с этим началом — едино с ним"(77.13).
«Сущность религии в том, чтобы видеть не себя одного и прикасающихся к тебе, а Все, бесконечное Все, и свое отношение к этому Всему – Богу. В этом религия»(56.49).
Про «свое отношение к этому Всему – Богу» Толстой рассказывает так:
«Про Бога я знаю и могу знать, что Он есть все, не имеющее никаких пределов и ограничений, но я говорю и думаю, не могу не говорить и не думать, что Бог – это Отец, во власти которого я нахожусь, который добр и знает меня и может помочь мне. И говорю: прости мне, Господи, помоги мне, благодарю Тебя»(56.52).
"Бога узнаешь не столько разумом, даже не сердцем, но по чувствуемой полной зависимости от Него, вроде того чувства, которое испытывает грудной ребенок на руках матери. Он не знает, кто его держит, кто греет, кто кормит, но знает, что есть этот кто-то, и мало того, что знает – любит его"(52.157).
Вот молитва Льва Толстого:
«Помоги мне, Господи, уничтожить себя так, чтобы Ты мог жить во мне, проходить через меня – чтобы я мог быть только Твоим проявлением»(56.122).
Когда это удается ему, он испытывает полную радость существования.
10 октября 1907 года. «Все чаще и чаще испытываю какой-то особенный восторг, радость существования… разжигается внутренний свет»(56.70).
12 октября 1907 года. «Здоровье – хорошо, а на душе – рай – почти рай. Все больше и больше входит в жизнь то, чтобы, не думая о себе для себя (тела) и о себе во мнении других, жить любя. И удивительно радостно»(56.71-2).
«Все больше и больше считаешь все любимое тобой – собою, а любишь все, и потому не на словах, а на деле становишься Богом. Как это совсем особенно, с какой-то охватившей, претворяющей все мое существо в одну радость, силой я почувствовал это ночью. Теперь читаю, пишу, но не могу восстановить чувства радости, восторга, умиления»(56.74).
«Отрываюсь от работы, чтобы записать то, что с утра испытываю невыразимую, умиленную радость сознания жизни любви, любви ко всем и ко Всему. Какая радость! Какое счастье! Как не благодарить То, Того, Кто дает мне это»(56.76).
И принципиально новое положение, которое высказывалось всегда, уже давно поставлено во главу угла, но теперь обретает особое звучание:
«Деятельность жизни проявляется любовью. Увеличивать в себе любовь человек не может, потому что любовь есть сама сущность жизни. Человек может только уничтожать препятствия проявлению любви. И в этом жизнь человеческая, и на это должны быть направлены усилия человека»(56.87).
«Все больше и больше сознаю, познаю невозможность жизни во имя будущего. Нельзя устраивать государства, нельзя свою семью, нельзя С Е Б Я. Что будет, предоставь Ему, а сам живи в том, что есть, стараясь делать то, что хотели всегда все люди и чему учили, и что одно ты можешь беспрепятственно делать, чего одного тебе истинно хочется и что одно дает тебе истинное счастье: становиться лучше и лучше, любовнее и любовнее»(56.157).
И через несколько дней после этой записи:
«Вчера разозлился на лошадь. Как скверно!»(56.158).
Бог не есть любовь. «Любовь это – сознание своей истинной жизни, единой во Всем»(56.165). Иными словами, любовь это сознание жизни той «капли», которая живет в Обители нераздельности. «Всё» (Бог живой) проявляется в людях любовью (см.56.101). Любовь – закон Бога для духовного существа, выпущенного в Обитель отделенности, то есть для человека. Высшая душа человека (капля «живого глобуса») выпущена в Обитель отделенности для полноты выражения и деятельности сознания своей истинной жизни. В этом разгадка – зачем пределы отделенности, в которые заключена высшая душа человека.
«Мир представляется мне таким устройством, при котором существа (в том числе и человек) одарены самодеятельностью, дающей им сознание блага, в точно определенных пределах, в области которых они свободны, но из которых выйти не могут. Так что существа имеют благо свободы, не могущей нарушить течение жизни целого и его законов. Один из таких законов может быть сознан человеком. Закон этот есть любовь»(56.101-2).
Любовь – закон Бога для человека в том смысле, что она основа жизни, и не только жизни человека, но и жизни как таковой – Жизни в Обители Бога. Но откуда же смертному человеку знать об этом?
Лев Николаевич всегда, а тем более на Вершине жизни, обладал удивительной способностью ощущать то, что другим и объяснить и вообразить трудно – жизнь как таковую, Жизнь Всего, Жизнь с большой буквы. Толстой чувствовал самою Жизнь так остро, полно и глубоко, как вряд ли кто другой. На самой глубине Жизни он мог переживать ее трепетание и переживать до внутреннего трепета, до сотрепета с нею, до сопереживания трепетности самой Жизни. Ощущение великого дара жизни никогда не покидало его. С годами он стал сознавать свою ответственность не только за общий дар жизни, но и за данную ему способность переживать ее глубины. Отсюда его стремление вынести наружу из практически никому не доступных глубин Жизни то, что люди не ведают: Закон Жизни, постигнутый в ней самой. Непосредственно, от самой Жизни, из «живого глобуса» он знал, что сознание истинной жизни и Закон Жизни для Обители отделенности, для земного человека – в агапической любви. Но как донести это свое знание до людей, которые еще не готовы воспринять его? Это практически невозможно даже из уст Льва Толстого, при его гениальных способностях выражения всего на свете человеческим языком. И Толстой – молился.
«Вся моя молитва, – пишет он 12 июля 1908 года совершенно неизвестному ему человеку, – если бы молился к Богу, не может быть ничем иным, как благодарностью за то огромное счастье, какое я не предполагал, что возможно иметь человеку. Вы спросите, какое же это счастье и в чем оно состоит?
Состоит оно в том, что то, чего одного я желаю более всего на свете, постоянно и неуклонно совершается, а именно то, чтобы всё больше и больше освобождаться от телесных желаний и чувствовать в себе ту основу жизни, которая вложена во всех людей и которая есть не что иное, как любовь, любовь ко Всему. Думаю, что это приближение к совершенству любви есть неизбежное свойство жизни каждого человека, хочет ли он того или не хочет, и потому понятно, что если человек поставит себе целью то, что в нем совершается, то он и будет постоянно получать удовлетворение, всё большее и большее счастье. Правда, состояние это не постоянное. Бывают, хотя и изредка, минуты, когда я перестаю чувствовать это благо, бывают даже и тяжелые минуты, но все они приходят только тогда, когда я отдаляюсь от той цели, которую я поставил себе и которая свойственна человеку"(78.180).
10 (61)
«Опять, что со мной так часто бывало, приходит мысль, кажущаяся странной, парадоксом, – пишет Толстой в самом конце 1904 года, – но приходит с другой стороны, другой, третий раз, начинаешь думать о предметах и мыслях, связанных с нею, и вдруг приходишь к убеждению, что это не только не парадокс, не случайная мысль, а самая основная, важная, которая открывает новую важную сторону жизни»(55.98).
Мысль, которую Толстой здесь имеет в виду, – это мысль монизма жизни.
В начале1904 года Толстой не идет дальше утверждения о том, что «все мы – проявления одного существа»(55.25) и «всё живое есть один организм»(55.26). Что такое здесь «все живое» понятно не совсем, но, судя по тому, что «жизнь общая этого организма не есть Бог, а есть только одно из проявлений Его»(55.26), Толстым предполагается, что во Всем (Боге) есть и живое и что-то другое, чем жизнь.
В середине 1904 года Дневники Толстого заполняются мыслями о соотнесенности сознания и мира и разъяснениями того, что Мир состоит из общения различных сознаний, разделенных иллюзией вещества в пространстве и времени. Мысль о жизненаполненности Всего не раз подтверждается в 1905 году. Формула жизни, над которой Толстой трудился три года, обретает завершенные черты во второй половине 1906 года. Вот это «мое живое понимание жизни, как сознания Бога»(55.261):
«2) То, что я называю своей жизнью, есть сознание Божественного начала, проявляющиеся в одной части Всего. Часть ограничена пределами, представляющимеся мне телесностью (материей) в пространстве. И Божественное начало это не только свободно, но и всемогуще и в пределах через изменения во времени. Эти изменения сознания во времени есть то, что я называю жизнью. Проявилось бы Божественное сознание только в телесности в пространстве – и не было бы движения, не было бы жизни. Жизнь есть проявление Божественного начала в пределах пространства движением во времени.
3) Жизнь есть освобождение (все большее и большее) своей Божественности. Не началось сознание Божественности, свободы – не началась жизнь (сознание это и есть во всем органическом). Кончилось это сознание – кончилась жизнь»(55.256-7).
Окончательно позиция монизма жизни установилась только к лету 1907 года, когда Толстой определяется по вопросу:
«1) дух = сознание = разум — произведение материи и в зависимости от нее. 2) Материя — произведение сознания и в зависимости от него. 3) Дух и материя нераздельно соединены и ни одна не влияет на другую».
И решает: «Душа, сознание, разум, ни откуда не появилось — оно есть, одно действительно есть, так есть, что без него ничего нет»(56.34).
И тогда же: «Все, что есть, все это – я же, только ограниченное пространством и временем»(56.42).
Примерно в это время Толстой получает письмо и рукопись от П. П. Николаева.
Петр Петрович Николаев с молодости решил отдать свою жизнь на всестороннюю философскую разработку метафизических прозрений Льва Толстого. Ознакомившись с его первыми опытами и убедившись в его незаурядных возможностях и его одноцентренности себе, Лев Николаевич поощряет его, давая ему как бы заказ и указывая направление его работы. В письме П. П. Николаеву от 7 июля 1907 года он пишет о присланной им книге:
"Много в ней хорошего, но Вы хорошо сделали, что не выпустили ее и хотите еще поработать над ней. Критика материализма прекрасна, но не выяснено, что мы ощущаем и называем материей. Я думаю, что это другие духовные сущности, в которых так же, как в нас, проявляется частично, ограниченно основная сущность (Бог) и что познавать мы эти сущности, так же, как и себя – свое тело, – мы не можем иначе, как через материю"(77.152).
В отличие от солипсизма, утверждающего, что мир для каждого субъекта есть только его представление, за которым нет никакой объективной сущности, толстовский монизм жизни учит, что за всеми порождаемыми нашим сознанием компактными образами скрыта реальная, нематериальная и ни при каком обострении наших внешних чувств не разлагаемая сущность – невидимая, неосязаемая, внематериальная Жизнь.
Будучи в значительной мере отделенной от жизни мира и его существ, несовершенная человеческая душа далеко не всегда и далеко не вполне способна воспринимать процессы жизни мира непосредственно. Она вынуждена воспринимать в себя из мира различные процессы жизни, как нечто внешнее себе. В этом, собственно говоря, и состоит иллюзия материального образа.
«Да, Бог сотворил мир, но не какой-нибудь особый Бог, а тот Бог, который во мне. Он сотворил весь видимый мир»(57.34).
Бог во мне, "Бог свой", духовное Я творит в сознании человека видимый им мир. Хотя творить образы, "творить мир", должны, казалось бы, пределы отделенности (низшая душа), которыми человек только и обращен к этому миру и воспринимает его.*) Низшая душа – пределы отделенности для высшей души, то есть принадлежит последней в качестве пределов ее. "Пределы" потому и пределы, что не существуют сами по себе и не обладают творческой мощью и не могут что-то "творить". Если они и творят, то творят от имени высшей души. По Толстому, все творческие силы в конечном счете принадлежат Божественной сущности, которая пользуется для своих целей своими пределами.
«Я – неполное сознание Всего. Полное сознание Всего скрывается от меня сознанием и временем. Пространство и время лишают меня способности сознавать Все»(56.42).
«Все, представляющееся бесконечным, всё иллюзорно. Действительно существует только то, к чему не может быть применимо понятие большего и меньшего»(56.93).
И все же:
«Я могу представить себе более медленный и более быстрый, чем наш, темп раскрытия. И одно это изменение темпа даст возможность бытия самых разнообразных, непонятных нам существ»(56.38).
Однако остается вопрос о соотношении духовной сущности и ее пределов.
«Я чувствую себя вечным, одним истинно существующим. И я же, когда сужу о себе, вижу себя ничем, бесконечно малой частицей чего-то бесконечно великого. Что же правда: первое или второе? Если второе, то сознание своего первого, вечного «я» — обман. Но этого не может быть, потому что без этого обмана (первого «я») нет жизни, нет ничего, нет, главное, и второго «я». Если же правда — первое, то второе: вся телесная жизнь есть обман. Но этого тоже не может быть, потому что без телесной жизни я не мог бы делать этих рассуждений. И потому есть и то, и другое: Я — духовное, непространственное, невременное существо в телесных, пространственных и временных условиях»(56.19).
«Я только один и есть и был и буду, и я – мгновенное проявление во времени»(56.19).
«Я – мгновенная вспышка чего-то»(56.20).
Это сказано в середине 1907 года. Через полгода, в феврале 1908 года, – еще яснее:
«Есть только два возможных последовательных, но неразумных миросозерцания: 1) Тело есть – дух кажется; 2) дух есть – тело кажется»(56.103).
И в пояснение этого:
«Тело – проявление духа. Движение и тело суть необходимые условия сознания. Без тела и движения не могло бы быть сознания. Без сознания не было бы ни тела, ни движения, пространства и времени тоже»(56.103-4).
В августе 1908 года – продолжение темы:
«1) В теле каждого человека живет дух Божий. Не было в теле людей единого для всех духа Божьего, не было бы жизни. Не было бы тел людских, разделяющих людей, также не было бы жизни.
2) Любовь человека соединяет его с людьми и с Богом, дает ему высшее благо. Этой любви не было бы, если бы не было тела, и потому тело необходимо для блага людей.
3) Жизнь это освобождение души от тела, и когда освобождение в любви, жизнь – благо…
5) Если бы не было духа, заключенного в теле, не было бы жизни. Мы не имеем никакого права говорить о духе и теле отдельно. Мы не знаем и не можем знать ни того, ни другого в разделении, но мы не можем понимать нашу жизнь без этого разделения, так как знаем, что вся наша жизнь есть неперестающее уничтожение тела и уяснение духа»(56.146-7).
Вещественное «тело» по Толстому представляется, конечно, не тем, каково оно в действительности, но оно есть доподлинно – как предел отделенности духовного существа. Пределы отделенности – не иллюзия, иллюстрирующая или скрывающая подлинность духовного существования, а особый род существования духа – существования в качестве пределов. Так, «животная личность» человека, его низшая душа, есть предел отделенности для его высшей души. Плоть – предел отделенности для «животной личности».
«Сознание есть условие отделенности, неполноты, ограниченности. То, что ограничено в человеке, – само в себе неограниченное, не нуждается в сознании»(56.104).
Телесные пределы – другое проявление духа, чем высшая душа. Их взаимодействие, взаимодействие двух различных проявлений духа порождает («необходимое условие») сознание.*) А сознание, в свою очередь, «творит» пространство и время.
«Вывод только тот, – пишет Толстой в начале 1908 года, – что весь телесный мир есть только произведение нашей духовной сущности и что истинное доступное нам знание — только духовное»(56.104-5).
Телесный мир есть произведение нашей духовной сущности не в том смысле, что его нет вовсе, а в том, что «мир, который мы знаем», – так-то воображаем, но мог быть воображаем и иначе. Тут, конечно, возникает множество вопросов. Толстой знает эти вопросы и не пытается ответить на них.
«Все утро думал и думаю о том, почему Мир представляется нам «становящимся"? Почему меня не было и не будет, а Мир все тот же будет и так же изменяться? Ответ только один: не знаю»(56.105).
Через несколько месяцев ответ все-таки нашелся:
«Мир представляется мне im Werden*) потому, что я не в силах обнять его весь, как он есть, вне времени, так, как я понимаю, знаю, обнимаю умершего (любимого) человека: Маша, Николенька. То же, что мир будет без меня изменяться, есть ни на чем не основанное предположение. Мир будет представляться другим существам (т. е. мне кажется, что будет представляться другим существам) опять во времени только оттого, что существа не могут понимать вне времени. То же, что эти существа будут, опять только по моей ограниченности кажется мне. Существа эти есть. Тут-то и видно степень своей ограниченности, всей неполности своей в сравнении со Всем, с Богом (Очень хорошо.)»(56.338).
П. П. Николаеву в его работе много помогла бы такая запись Дневника Толстого:
«Читал статью Вивикананда о Боге превосходную. Надо перевести. Сам думал об этом же:
Его критика «Воли» Шопенгауэра совершенно права. Одно неверно: то, что он начинает с (объективного) рассуждения о мире. Рассуждать об этом не дано нам. И все такие рассуждения, как ни кажутся важными, пустословие. Исход всего и законное рассуждение всегда может и должно начинаться только с личности, с себя. Рассуждать о внешнем, о мире, не сказав о себе, о том, кто видит мир, все равно, что начать рассказ так: "потому что когда он на меня замахнулся» и т. д., т. е. рассказывать, не упомянув о том, кто, где и кому говорит.
Основа всякому рассуждению о мире, о Боге одна: сознание человеком своего единства с началом всего, своей Божественности и вместе с тем сознание своей отделенности, своей ничтожности. «Я царь, я Бог, я раб, я червь». Зачем? Отчего я такой, я не знаю, не могу, не хочу и не нуждаюсь знать, но знаю, и всякий знает, что я – и Все и ничто. В соединении этих двух есть то, что мы называем и сознаем жизнью. Я — все, я един и я отделен. От того, что я отделен, от этого я телесен и я в движении, а телесность может быть только при пространстве, а движение — только при времени. Как единое же существо, я бестелесен, неподвижен, вне пространства и времени. Благо мое в сознании этого единства в отделенном. (Думаю, что верно.)»(56.138-9).
11 (62)
Им кажется, что они «поймали меня, заперли меня», но они посадили в плен мое фиктивное «Я» – вот нелепость, вдруг открывшаяся Пьеру. И он смеется: «Кого меня? Меня?»
Чтобы различать эти два «Я», отделить, разъединить их друг от друга, Толстой в 80-х и 90-х годах терминологически распознает в человеке «Я» и «личность»: «животную личность» (суррогат подлинного «Я» – того «меня», кого «не пустил солдат») и "духовное Я", Божественную сущность, Бога своего («Меня – мою бессмертную душу!»).
В начале 900-х годов Лев Николаевич предпочитает говорить о частице неизменного духовного Начала и пределах отделенности, в которые заключена духовная сущность. У духовной сущности – жизнь истинная и вечная, по отношению которой жизнь собственно пределов отделенности – своего рода тень подлинной жизни, но не сплошная фикция и не нежизнь. В сумме жизнь вечная духовной сущности и жизнь пределов образуют жизнь Всю. Теперь Толстой соединяет непосредственно в своем сознании, сливает в единое целое то, что прежде разъединял.
После второго Пробуждения и особенно после болезни 1901-2 годов Толстой неизменно обращен к тайне Всей жизни или жизни Всего. Это определило его постоянный интерес к неисчерпаемым проблемам времени, пространства, движения, материи. Во второй половине 900-х годов Толстой определил свою позицию по этим вопросам. И на первый план вышла другая извечная тайна – глубочайшая из тайн, тайна «Я» человека.
Вопрос о тайне «Я» поставлен, собственно говоря, только в 1903 году, на 75 году жизни. Вполне может быть, что до этого возраста человеку рано подступать к этой тайне.
«Есть одно вневременное существо, которое и есть мое «я». Оно более или менее затемняется, как солнце тучами и атмосферой, моей ограниченностью, но оно всегда едино и вневременно»(54.185).
В начале 1904 года Толстой пишет о существовании истинного солнечного «Я» и о его отражении, о воображаемом теневом «я» пределов отделенности человека (см.55.16). Раздумья о «Я» и «я» – примета духовной жизни Толстого в 1904 году.
«Я знаю вполне себя, всего себя до завесы рождения и прежде завесы смерти. Я знаю себя тем, что я – я. Это высшее или, скорее, глубочайшее знание. Следующее знание есть знание, получаемое чувством: я слышу, вижу, осязаю. Это знание внешнее… Третье знание еще менее глубокое, это знание рассудком… – рассуждение, предсказание, вывод, наука… Жизнь, я думаю, в том, что и третье и второе знание переходят в первое, что человек все переживает в себе»(55.29).
«Я был уже многим. И все, чем я был, все это во мне, все это мое я. И жизнь моя здесь и после смерти будет только приобретением нового содержания моего я. И как бы я не увеличивался, я никогда не перестану быть ограниченным, ничтожным, потому что Все бесконечно»(55.30).
«Я теперешний и я в следующую секунду – один и тот же я, но я не могу сознавать я следующей секунды, и потому мне кажется, что есть движение моего сердца, дыхания. Не будь перехода сознания нового я, не было бы движения сердца. Так же не будь перехода сознания нового я, не было бы движения земли вокруг своей оси, дня и ночи»(55.30).
«Я» человека для Толстого в 1904 году есть «ограниченное пределами сознание Бога»(55.71). В этом смысле: «Я – это сознание в пределах»(55.125).
В начале 1905 года Лев Николаевич разрабатывает мысль творчества жизни. Отсюда вырастает мысль, что «жизни нет без я», которое и творит жизнь.
«…если есть жизнь, то есть и я. Жизнь это – я. Без меня нет жизни. Это очень важно»(55.124). Постепенно мысль Толстого уясняется и уясняется. Но он все еще говорит не о «Я», а о «сознании Я».
«В сознании своего я есть нечто основное, без чего ничего существовать не может. Я могу допустить, что уничтожится тот мир, который я знаю, но не могу допустить своего уничтожения»(55.141).
Человек живет двумя жизнями. У него два сознания и два Я.
«У человека два сознания: своего ограниченного, заключенного в пределы «я» и своего неограниченного «я». – Для неограниченного «я» (в Обители нераздельности. – И. М.) не может быть страданий (стеснений), не может не быть постоянное благо (не то страстное благо, которое дает временное удовлетворение желаний, а благо ровное, спокойное, благо сознания себя,*) сознания блага). И человек может переносить и переносить более или менее чаще или реже свое сознание из одного «я» в другое. Человек, живущий одним духовным «я» (святой), не знает несчастий; человек, живущий одним ограниченным «я» (в Обители отделенности – И. М.), не может не страдать. Все мы живем в середине между двумя, все более и более освобождаясь от ограниченного и приближаясь к неограниченному, духовному»(55.134).
В том же 1905 году у Толстого возникает совершенно новая мысль:
«Понять иллюзию своего я и реальность своего я – одно и то же»(55.124).
В другом месте Толстой пишет о «начатом я»(55.144), то есть о «Я» творящемся, пришедшем и постепенно (в духовном росте) становящемся в существовании. В этой мысли есть нечто такое родное Толстому, что должно впредь созревать и созревать в его душе.
«Не будь ограничения времени, т. е. будь я сразу, какой я есмъ или буду в момент смерти, т. е. будь я тем существом, включающим в себя все воспоминания, весь опыт прожитой жизни, будь это существо сразу, не было бы жизни, не было бы свободы. Свобода и жизнь есть только потому, что я постоянно раскрываюсь сам себе, и что в каждый момент этого раскрытия я могу так или иначе отнестись к условиям, в которых нахожусь. Я сказал: не будь ограничения времени; но ограничение времени возможно только при ограничении пространственного мира. Если бы – как ни странно это сказать – я был Все, то я не жил бы: я бы только был для кого-то. Если бы я был сразу то, что я есмъ – тоже странно сказать – я тоже не жил бы. Для того чтобы жить и быть свободным, необходимо ограниченное существо в пространстве, проявляющееся во времени. Это самое я и есмъ. (Устал, и не хорошо.)»(55.255-6).
Духовное Я человека – общее со всем живым, со Всем, с Богом. И человеку, следовательно, следует «расширять его, слиться им с Богом и со всем живущим (люби Бога и ближнего) – только служа этому я, возможно благо свое и всех людей»(55.187).
«Тело мое – не я, разум мой – тоже не я. Не я и мое сознание. Я, мое истинное я, это – то, чтО я сознаю. Сознаю же я свою духовную, Божественную сущность. Я не понимаю эту сущность, но она-то одна и есть настоящий я»(56.47).
«Ты еси вечное, непространственное Божеское «я»(55.274), – обращается Лев Николаевич к этой духовной сущности. Даже в состоянии духовного отлива он знает её в себе:
«Все это время было состояние такое, как будто «я», настоящий «я» ушел куда-то или во мне же спрятался куда-то, так что я не вижу, не сознаю его, но знаю, что он есть, и что он выйдет опять наружу, и что надо будет отдать отчет, как я вел себя в его отсутствие: не осквернил ли чем его жилище?»(55.205)
В самом начале 1907 года родилась определяющая «Я» мысль:
«Все думал о том, что время есть, как говорил Амиэль, вращение передо мной сферы. Но я-то где? И вдруг мне ясно стало, что я вращаюсь вместе со сферой (бесконечной) и вместе с тем стою над ней (или в ней, созерцая ее). И мне вдруг пришла удивительная мысль по своей простоте и по тому, что никогда не приходила мне, – именно, что если есть движение (а мы все сознаем движение жизни), то движение может быть только относительно чего ни будь неподвижного. И это неподвижное духовное я и есть то я, которое созерцает движущуюся жизнь.
Как удивительно ясно и просто – не доказательство, а уяснение той бессмертной духовности, которая составляет сущность я человека, да и всякого существа. Жизнь трепещет*) в каждом существе именно оттого, что каждое существо движется вместе со всеми и вместе с тем неподвижно, как сознание»(56.6-7).
Я – созерцает, вернее, несет в себе «созерцание созерцателя», то есть Свет Сознавания. С этой стороны «Я» неподвижно. С другой стороны «Я» включено в движение жизни во времени. «Я» – дрожит жизнью, так как и живет само вместе со Всем и всеми, и созерцает свою и всякую жизнь из неподвижного Источника Жизни и Света Сознавания.
Мысль эта – не плод абстрагирования, отвлечения, умозрения. И не только откровения. Нельзя сказать даже, что она есть прямой результат труда и опыта духовной жизни Льва Николаевича. В ней есть нечто недоступное смертному человеку. Среди некоторых других мыслей Льва Толстого она недоступна нам, прежде всего, по преображенному сознанию жизни, проникающему за предметную оболочку мира в глубинную суть вещей. Человечеству знакомо это просветленное состояние сознания жизни, в котором спонтанно постигается, что Я есть во Всем сущем и Все есть в моем «Я», что Я есть и Я и множество других жизней. Человек, наслышанный, скажем, о преображении сознания в состоянии «сатори», сразу же узнает это состояние в изложении Толстого. И все же поостережемся делать скороспелые выводы.
В феврале 1907 года Толстой в письме В. Черткову приводит свою формулу жизни в соответствие со своим новым сознанием «Я».
«Жизнь наша представляется нам движением. Для того чтобы было движение, нужно, чтобы была точка неподвижная, по отношению которой совершается движение. Такая точка есть то, что называем, сознаем собою — свое духовное я. То, что нам представляется движением, есть снятие покровов с неизменяемого, неподвижного, духовного я».
И несколько иначе:
«Жизнь представляется нам движением нашего я, с его началом — рождением, и концом — смертью, и мы поэтому и обо всей жизни хотим судить так же: говорим о начале, конце исторического периода жизни человечества, жизни миров, когда понятие начала и конца всякого движения свойственно только нашему ложному представлению, вытекающему из нашей ограниченности»(89.61).
Нельзя не отметить, что именно в эти дни Толстой записал фразу, которую мы вынесли в эпиграф:
«Ошибаюсь или нет, но мне кажется, что только теперь – хороши ли, дурны ли? – но созрели плоды на моем дереве»(56.4).
12 (63)
Мы уже знаем, что Толстой, бывало, на десятилетия опережал самого себя, свое духовное развитие. В конце 90-х годов, в пору второго Пробуждения в Дневнике Толстого промелькнула мысль, отчетливо ассоциирующаяся с прозрениями последних лет его жизни.
«Стал думать о себе, о своих обидах и своей будущей жизни и опомнился. И так мне естественно было сказать себе. Тебе-то что за дело до Льва Николаевича? И хорошо стало: Стало быть есть тот, кому мешает подлый, глупый, тщеславный, чувственный Л. Н.»(53.189).
Но кто этот «тот, кому мешает» Л. Н.? «Я» ли это? Можно ли про «Я» сказать «тот»?..
Схожую мысль Толстой заносит в Дневник 1905 года:
«В человеке два человека: один не настоящий, тот, которого обыкновенно считают собою: Федя, Л. Н., Ив. Ив., тот, который родился мальчиком или девочкой в русской, французской, дворянской, купеческой, крестьянской семье, у которого такие глаза, такой нос, которому столько лет. Это человек не настоящий, а настоящий тот, который живет в этом человеке и с каждым годом, днем, часом все больше и больше проявляется и все больше и больше получает власть над Л. Н., Ив. Ив и т. п.»(55.268).
Прошло еще 3 года. На прогулке 20 июля 1908 года. Тут важен сам ход рождения мысли.
«Еду верхом в глуши и вижу в чаще какие-то созревшие ягоды. И подумал. Никто не увидит этих ягод, никому они не нужны, и им никто не нужен, а они неукоснительно, во всю делают не свое дело, а то, какое им предназначено, исполняя волю Того «Я», которое в виде отдельного существа живет в этом растении. Так же и человек, отличаясь от растения тем (кажущимся) преимуществом, что может сознавать в своем отдельном существе это всемирное «Я».
Да, я – Л. Н., я – писатель, я – нищий, я – царь, это – большое заблуждение. От него все страдания людей. Есть только Один и бесчисленные проявления Его, одно из которых – то, которое я сознаю собой. И благо нам, если мы не признаем Его проявление в себе за отдельное свое «я», а всегда чувствуем в себе то «Я» и живем Им. И мы испытываем самые разнообразные и неизбежные горести и страдания, если живем в заблуждении, что я есть наше Я.
Жизнь – в исполнении воли «Я», или, иначе, жизнь – в стремлении к прекращению разъединения, в слиянии со Всем. А это-то приближение к слиянию есть лучшее благо нашей жизни – любовь»(56.141-2).
Прошел еще год. Наступил год 1909. Апреля 11—12. Ясная Поляна. Толстой – Черткову:
"Дня четыре тому назад, ночью, когда я лучше всего думаю, я стал думать кое о чем тяжелом, и вдруг мне ясно стало, что то, что тяжело, может быть тяжело для Толстого, но для меня*) нет и не может быть ничего тяжелого, трудного, для меня, для моего настоящего Я всё легко, всё благо.
И когда я понял, ясно понял это, я стал перебирать всё, что беспокоит, мучит меня, и ясно сознал, что это всё разрешает: хочется Толстому дурно думать о человеке, осудить кого в мыслях, не хочется Толстому идти, оторвавшись от занятий, беседовать с человеком, которого считаешь пустым, спроси только у Него, у Я. Он бесповоротно решает, и решения его всегда таковы, что от исполнения их всегда хорошо, радостно. Радостное состояние это, ясного раздвоения на два существа: одного жалкого, гадкого, подлого, и другого всемогущего, чистого, святого, сделалось со мною последние дни, и я хочу поделиться с Вами этой радостью. Если что представляется запутанным, трудным (таково Ваше положение), стоит только ясно разделить эти два, живущие в одном существа, и всё сейчас же станет легко и просто.
Чертков хочет вернуться в Телятинки, хочет продолжать руководить сыном, хочет не разлучаться с женою — продолжать многие годы делаемое дело. Всё это может быть хорошо, а может быть и не совсем, надо спросить его, того, кто не родился и не умрет и кто хочет только добра, и не одному Черткову, а всему миру и нераздельно слит с Чертковым. Надо его спросить, и он решит, и решение его будет благо для всех.
Пишу Вам это потому, что это ясное разделение себя на Толстого и Я мне вдруг сделалось особенно резко и дало мне новую силу и радость. Может быть, Вам это будет не так, но мне хотелось поделиться с Вами своей радостью... Похвастался я Вам, милый друг, своим душевным состоянием, выделением настоящего Я от меня телесного, и как это всегда бывает, прошло несколько дней и уж нет того, только кое-что осталось»(89.107-9).
Все то, о чем Толстой пишет сейчас, – не откровение (и тем более не умозрение), а состояние его души и жизни, хотя и не долговременное. Это состояние души все более становится постоянным. Через полмесяца, 27 апреля 1909 года, – ему же и о том же:
"Напишу Вам, милый друг, о том, что в самое последнее время случилось с Л. Н. Толстым. Случилось то, что вместе с Толстым оказался некто, совершенно завоевавший Толстого и не дающий ему никакого хода. Как только Толстой заявит какое-нибудь желание, или, напротив, нежелание что-нибудь делать, так этот некто, которого я называю Я, по-своему решает дело и иногда соглашается, а большей частью, напротив, не позволяет делать того, что хочется, или велит делать то, чего не хочется Толстому. Толстой хочет вспоминать дурные качества неприятного ему человека или осуждать его, хочет думать о том, как его хвалят, или не хочет говорить с бестолковым человеком, не хочет бросить планы и пойти к тому, кто хочет его видеть, а Я не велит думать о дурных качествах других, не велит осуждать, велит бросить занятия и идти к тому, кому он нужен. И удивительное дело, с тех пор, как я ясно понял, что этот Я гораздо важнее Толстого и что его надо слушаться и что от этого будет хорошо, я, как только услышу его голос, сейчас же слушаю его»(89.112).
Записи в Дневнике того же месяца:
«И теперь самое для меня дорогое, важное, радостное; а именно:
Как хорошо, нужно, пользительно, при сознании всех появляющихся желаний, спрашивать себя: чье это желание: Толстого или мое.*) Толстой хочет осудить, думать недоброе об NN, а я не хочу. И если только я вспомнил это, вспомнил, что Толстой не я, то вопрос решается бесповоротно. Толстой боится болезни, осуждения, и сотни и тысячи мелочей, которые, так или иначе, действуют на него. Только стоит спросить себя: а я что? И всё кончено, и Толстой молчит. Тебе, Толстому, хочется или не хочется того или этого — это твое дело. Исполнить же то, чего ты хочешь, признать справедливость, законность твоих желаний, это — мое дело. И ты ведь знаешь, что ты и должен и не можешь не слушаться меня, и что в послушании мне твое благо.
Не знаю, как это покажется другим, но на меня это ясное разделение себя на Толстого и на Я удивительно радостно и плодотворно для добра действует»(57.46-47).
Слово «я» в этом тексте дважды подчеркнуто самим Толстым.
«На душе уже не так хорошо, как было. Толстой забирает силу надо мной. Да врет он. Я, Я, только и есть Я, а он, Толстой, мечта и гадкая и глупая»(57.47).
«Всё так же слаб, возбужден и раздражен.*) Не могу работать, но думается хорошо, и Я большей частью сознаю отдельно. Чувствую и умиление — плакать и благодарить хочется, и с трудом удерживаюсь от раздражения»(57.48).
«Да, Толстой хочет быть правым, а Я хочу, напротив, чтобы меня осуждали, а я бы перед собой знал, что Я прав»(57.50).
«Разделение себя слабее чувствую. Но чувствую иногда»(57.52).
«Помнить о Боге значит перестать помнить о себе, Л. Н.»(57.141).
Из письма примерно того же времени:
«Стоит мне только вспомнить, что я не Лев Толстой, а проявление Бога, такое же, как во всех людях, и не может быть никакой тоски»(79.195).
Это фундаментальное «разделение на Я и Толстого» осталось в сознании Льва Николаевича уже до конца дней. Вот выдержка из письма Черткову, написанного через год, в мае 1910 года:
"Меньшикова прочел и Л. Н. огорчился, но когда Он узнал об этом, то очень скоро успокоил Л. Н. и, без прибавления, довел его до того, что Л. Н. пожалел Меньшикова, а за себя, именно вследствие этого, порадовался"(89.186).
Кто же тот, кого едко обличал Меньшиков – бывший сподвижник Толстого и один из самых талантливых журналистов того времени? И кто тот, кто довел Л. Н-ча до того, что он пожалел своего обидчика? Кто от кого «разделился»? Высшая душа и низшая душа? Духовное Я от «личности»? Но разве разделение такого рода «сделалось со мною последние дни», в начале апреля 1909 года?
Кто же в этих текстах – «Толстой»? И кто есмъ «Я»?
«Толстой» – это не только «животная личность» определенного человека, но и не только его обладающая свободной творческой и нравственной волей высшая душа. «Толстой» – это тот целостный человек, кого весь мир величает Львом Толстым, великим писателем и мыслителем, автором «Войны и мира», «В чем моя вера?», «Воскресения», это один из тех редчайших людей, который на века оказался в центре внимания человечества.
«Я» – это, разумеется, Бог. «Бог это само в себе без ограничения то духовное начало, которое я сознаю своим "Я" и которое признаю во всем живом»(58.92), – пишет Толстой в августе 1910 года. И в этом смысле в «Пути жизни»: «Спрашивать, есть ли Бог, всё равно что спрашивать: есть ли я? То, чем я живу, это и есть Бог». В дневнике: «Могу в заблуждении своем сказать себе, что я — я, а Бог сам по себе, или нет Его, и могу понять, что я — Он, и тогда все легко и радость и свобода»(58.110).
«Я дожил до того сознания, что я не живу, но живет через меня Бог. Это звучит безумной гордостью, а между тем это, насколько это искренне чувствуется, есть самое настоящее смирение»(57.100).
В этом же смысле – в «Пути жизни» (1910 год):
«Нужно не заслуживать перед Богом, а быть им».
Когда Толстой прежде говорил о «Я духовном», то он, различая духовное существо человека от его «личности», хотел особо подчеркнуть нематериальность, внематериальность и даже антиматериальность высшей души человека. Ударение тут делалось на слове «духовное». К сокровенному переживанию каждым человеком своего «Я» это не имело непосредственного отношения. Теперь Толстой, сохраняя и прежнее значение, все же делает ударение именно на «Я» в его собственном смысле. Это «Я» человека, взятое в его собственном смысле, он в последний год жизни (и, значит, в «Пути жизни») называл уже не только отделенным духовным Началом, духовным Я, высшей душою, но и просто: «ДУШОЮ».
«Человек, если прожил долгий век, – читаем мы в «Пути жизни», – то прожил много перемен, — был сначала младенцем, потом дитем, потом взрослым, потом старым. Но как ни переменялся человек, он всегда говорил про себя «я». И этот «я» был в нем всегда один и тот же. Тот же «я» был и в младенце, и в взрослом, и в старике. Вот это-то непеременное «я» и есть то, что мы называем душой».
Там же: «Что же такое это «я»? Словами мы не можем сказать, что такое это «я», но знаем мы это «я» лучше всего того, что знаем. Мы знаем, что не будь в нас этого «я», то мы ничего бы не знали, не было бы для нас ничего на свете, и нас самих бы не было».
Из письма 1910 года: «Знаем мы несомненно только одно: нечто нематериальное свое «я», которые мы и все люди, думающие прежде нас об этом, называли и мы называем душою. Такое нечто нематериальное существо «я» мы сознаем не только в себе, но и во всех живых людях и даже во всем живом. Это же самое нематериальное нечто, дающее жизнь всему живому само в себе, все мудрые люди, прежде мыслившие об этом, признавали существующим, давая ему разные названия, также признаю и я и называю это существо Богом»(82.151).
В этом письме к незнакомому человеку Толстой не говорит прямо о соответствии «Я» и Бога, но сам хорошо сознает это соответствие. Запись в Дневнике того же времени:
«Да, какое чудное сознание проходящего через меня и составляющего мое «Я» духовного начала, которое я могу сознавать собою. Прекрасно это у Магомета: «Бог захотел быть известным, проявить себя и сотворил людей". *) Разумеется, не сотворил и не захотел. А это выражает то, что я чувствую"(57.173).
С тех пор как Толстой при своем духовном рождении сознал в себе духовное Начало, он многие годы звал Его в себя, жил перед Ним и вместе с Ним. И вот теперь он почувствовал, открыл, раскрыл, что Начало это воплощено в «Я» человека, что «Я» человека есть не что иное, как «Всемирное Я», Я Господа. Толстой чувствует в себе Я Господа Бога и узнает в своем «я» Его «Я».
Место того духовного Начала, которое в конце 70-х годов, во времена «Соединения и перевода четырех Евангелий», Толстой назвал «Разумением жизни» и которое тогда положил в основание своего учения, теперь, на исходе его дней, заняло «Я». Место той духовной сущности, которую Толстой в ту пору называл «Сыном Разумения», «сыном Бога», «сыном человеческим» заняло теперь человеческое «Я» или его «душа». Перефразировав текст Евангелия от Иоанна, Толстой вполне бы мог сказать так:
«В начале было «Я», и «Я» было у Бога, и «Я» было Бог. Все через это «Я» начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В «Я» этом – Жизнь, и жизнь – свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».
В начале апреля 1909 года Толстой, по сути дела, познал тайну человеческого «Я». Разгадка тайны «Я» человека состоит в том, что в своей доподлинности это «Я» есть Я Господа. Во Всем существующем есть только одно «Я». И это «Я» – Я Господа. Более того: только это «Я» и есмъ, только оно одно и существует, и ничего не существует, кроме Него.
«Я», которое Лев Николаевич отделил от «Толстого» (от поддельного «Я», которое есть «мечта и гадкая и глупая») – это Я Господа Бога. Этим Своим «Я» Господь Бог подписался под данными Моисею Десятью заповедями:
«Я Господь, Бог твой…»(Ис. 20:2).
Напомним, что Всевышний в Моисеевом Пятикнижии называется то «Богом», то «Господом Богом», то «Господом». Это, как известно, имеет глубокий смысл. «Бог» – Тот, Кто создал Мир и действует в Мире. «Господь Бог» – Тот, Кто ведет человека как такового и управляет человечеством. Слово же «Господь» употребляется в Пятикнижии только тогда, когда Всевышний взаимодействует с отдельной человеческой личностью. В личные отношения с Каином, Авраамом, Моисеем вступает не «Бог» и не «Господь Бог», а «Господь». Именно Я Господа обращено к «Я» человека.
Если бы Толстой четко различал понятие «Бога» и понятие «Господа», то вполне можно было сказать, что Всевышний для Толстого три десятилетия был только духовным Началом Всего, Богом, и только в последний год жизни стал Господом – Тем, к Кому человек может обратиться «на Ты», как «я» к «Я».
«Я» Господа – это Подлинник того подобия «Я», который человек называет своим «я». Вот что Лев Толстой осознал на вершине духовной жизни. Эта вершина принадлежит одновременно как вселенской духовной жизни, так и личной духовной жизни. В конце 90-х годов Толстой вышел из поприща личной духовной жизни, чтобы войти на поприще вселенской духовной жизни. Теперь оказалось, что на пике духовной жизни это одно и то же, что он на Пути восхождения никуда не сворачивал и продолжал восхождение к вершине личной духовной жизни.
Тот переворот, который произошел в душе пятидесятилетнего Толстого, мы называем, и он сам называл, своим духовным рождением. Это – первое духовное рождение его личной духовной жизни. Второе духовное рождение Толстой на пути личной духовной жизни пережил на 81-м году жизни. До этого Всевышний для него был Всем, Жизнью Всего и Светом Сознания во Всем, был Богом недосягаемым в Самом Себе. После этого момента Пути жизни Всевышний раскрылся душе Толстого как Господь, как Высшее «Я».
Первое духовное рождение Толстого в 50 лет было рождением Бога в душе. Второе духовное рождение Толстого в 80 лет стало рождением Господа в душе.
Примечательно*), что между первым Пробуждением Толстого (в конце 60-х годов) и его первым духовным рождением (конец 70-х годов) прошло столько же времени, сколько между его вторым Пробуждением (конец 90-х годов) и вторым духовным рождением – 10 – 12 лет.
После первого духовного рождения Толстой перешел в новое состояние жизни и обрел свободу духовного пути жизни. После второго духовного рождения Толстой на Пути восхождения вошел в наивысшее состояние жизни – стал Птицей Небесной.
13 (64)
Толстой с легкостью проникал за самые разные завесы, скрывающие людские души, и видел их, словно глазами глядел вокруг себя. Прозревал он и Природу, и даже животных. Чем старше он становился, тем его сила прозревания все больше и больше обращалась в глубь себя. Под самый конец жизни в нем совершился тот переворот, который он сам провидел за полвека до того, в полном расцвете земных сил, когда описывал смерть князя Андрея.
Ко всем героям Толстого, даже к княжне Марье, даже к отцу Сергию можно обнаружить легкую авторскую улыбку. Но не по отношению к князю Андрею. Толстой, который всегда и везде над своими героями, смотрит на князя Андрея как на равного, а в прощальных сценах – и снизу вверх.
Судя по всему, Лев Толстой задумал князя Андрея в целях художественного исследования того, что велико в этом мире и что ничтожно.*) В образе этом испытывается статус и достоинство людского величия, подлинность той или иной достигаемой человеком Вершины жизни. Для Льва Толстого, который знал себе цену, это не литературная, философская или публицистическая тема, а личная проблема. Эту личную задачу истинной Вершины жизни человека Толстой и решал – решал для себя – в образе князя Андрея.
Войдя к брату, княжна Марья "чувствовала уже в горле своем готовые рыдания", но, "увидав его лицо и, встретившись с ним взглядом, княжна Марья вдруг умерила быстроту своего шага и почувствовала, что слезы вдруг пересохли и рыдания остановились. Уловив выражение его лица и взгляд, она вдруг оробела и почувствовала себя виноватой. "Да в чем же я виновата?" – спросила она себя. "В том, что живешь и думаешь о живом, а я!.." – отвечал его холодный, строгий взгляд. В глубоком, не из себя, а в себя смотревшем его взгляде, была почти враждебность, когда он медленно оглянул сестру и Наташу".
Потом княжна поняла, что и взгляд брата, и все его поведение "доказывали", как "страшно далек он был теперь от всего живого", "что что-то другое, важнейшее было открыто ему" – "такое, чего не понимали и не могли понимать живые и что поглощало его всего". И если она "виновата" перед ним, то совсем не в том, что, оставаясь жить, она имеет непростительное преимущество перед умирающим, а, напротив, в том, что она "живет и думает о живом", то есть живет такими интересами, которые для него, на его Вершине жизни, ничтожны и чужды.
Все земные чувства и мысли людей для князя Андрея ненужны потому, что есть жизнь Птиц Небесных. Князь Андрей Николаевич Болконский вознесся над родом человеческим. Как и положено Птице Небесной, он высоко-высоко парит над людьми со всеми их заботами и чувствами, которыми они так дорожат, и всеми их мыслями, которые кажутся им так важны. В прозрении Птицы Небесной у Толстого возник образ истинного небесно-земного величия человеческого.
С некоторого момента работы над "Войной и миром" (я думаю, с описания Аустерлицкого сражения) князь Андрей становится героем, имеющим совершенно особое значение для его создателя: в нем все более отчетливо проявляется идеальное Я автора – "то лучшее, что есть во мне", как говорил Лев Николаевич. Придет время, и эта "лучшая часть души человека"(13.489) будет названа "духовным Я".
За два года до своей смерти, 31 января 1908 года Лев Толстой записал слова, которые вполне можно поместить в описание последних дней жизни князя Андрея:
«То, что я начинаю испытывать, – как Христос говорит: – иногда будете видеть, а иногда не будете видеть меня, – испытывать какую-то странную радостную свободу от своего тела, чувствую только свою жизнь, свое духовное существо, – какое-то равнодушие ко всему временному и спокойное, твердое сознание истинности своего существования. Впрочем, сказать этого ясно нельзя,*) по крайней мере теперь не умею"(56.95).
Прошел месяц,:
«Душевное состояние все лучше и лучше. – Пишет он 9 февраля 1908 года. – Духовная жизнь, внутренняя, духовная работа все больше и больше заменяет телесную жизнь, (это и есть формула состояния князя Андрея. – И. М.), и все лучше и лучше на душе. То, что кажется парадоксом: что старость, приближение к смерти и сама смерть – хорошо – благо, несомненная истина. Испытываю это»(56.98).
И в тот же день:
"Я сейчас всё больше и больше теряю память и сознаю то, что приобретаю. И так хорошо!"(56.101)
Через полгода, 2 сентября 1908 года – еще определеннее:
«Утром и ночью в первый раз почувствовал, именно почувствовал, что центр тяжести моей жизни перенесся уже из плотской в духовную жизнь: почувствовал свое равнодушие полное ко всему телесному и неперестающий интерес к своему духовному росту, т. е. своей духовной жизни»(56.150).
На вершинах Пути восхождения у человека "в виду смерти вся жизнь становится торжественна, значительна и истинно плодотворна и радостна"(45.462).
Такое состояние было знакомо старцу Толстому в те минуты, часы, дни последних лет жизни, когда он жил вместе и этой и той жизнью и, так же, как по его описанию Христос, "жил уже во время своего плотского существования в лучах света от того другого центра жизни, к которому он шел" и очень хотел видеть "при своей жизни, как лучи этого света уже освещали людей вокруг него". Об этом его состоянии вместе и этой и иной жизни свидетельствовали очевидцы. Вот что видел Петр Струве во время своего посещения Толстого в середине 1909 году, то есть уже после второго духовного рождения:
"Самое сильное, я скажу, единственное сильное впечатление, полученное мною от этого посещения, можно выразить так: Толстой живет только мыслью о Боге, о своем приближении к Нему. Он уходит отсюда – туда. ОН УЖЕ УШЕЛ (подчеркнуто Струве. – И. М.). Телесно он одной ногой в могиле, потому что ему 81 год, но он может еще прожить немало дней, месяцев и лет, ибо тело его еще не разрушилось – способен же он чуть не каждый день ездить верхом, что для многих из нас, вдвое его моложе, не только трудно, но и прямо непосильно. Но душевно и духом он там, куда огромное большинство людей проходит только через могилу, незримо и неведомо для всех других. А он ушел, И Я ЭТО ВИДЕЛ, чувствовал в нем и с ним. И в то же время я видел его. В этой очевидности ухода из жизни живого человека было нечто громадное и для меня единственное... Его смерть поэтому так исключительна и значительна. В ней, кроме физиологического состава умирания, не было смерти. Для меня это не "фраза", не "построение", для меня это очевидный психологический факт. Очевидный, ибо я его видел. Я видел не физическое умирание Толстого, не естественный физиологический акт, а таинственное религиозное преображение. Я видел воочию и с трепетом ощущал, как живой Толстой стоял вне жизни. И так же, как я считал своим долгом при жизни Толстого молчать об этом, так теперь, перед всеми здесь собравшимися, объединенными одной мыслью и одним чувством – религиозно почтить отошедшего Толстого, я считаю своим долгом свидетельствовать об этом великом факте его религиозной жизни. Великом, ибо тут была одержана труднейшая победа, тут свершилось величайшее торжество – человека над смертью".
Второе духовное рождение на Пути восхождения личной духовной жизни – это рождение Птицы Небесной.
Голос Птицы Небесной порою явственно доносится в речах Толстого последнего года жизни. Вот несколько цитат из Дневника первых трех месяцев 1909 года – еще до того, как (по приведенному выше тексту его письма к Черткову) «вместе с Толстым оказался некто, совершенно завоевавший Толстого и не дающий ему никакого хода»:
«В старости это уже совсем можно и даже должно, но возможно и в молодости, а именно то, чтобы быть в состоянии не только приговоренного к смертной казни, но в состоянии везомого на место казни. Как хорошо: «Я есмъ — смерти нет. Смерть придет — меня не будет». Мало того, чтобы быть готовым не удивляться тому, что есть смерть, ничего не загадывать; хорошо, главное, то, что вся жизнь становится торжественна, серьезна. Да, жизнь — серьезное дело»(57.4).
Запись 27 апреля 1909 года, то есть в день отправления письма Черткову о рождении Птицы Небесной в себе:
«Нынче могу написать со смыслом: «если буду жив», потому что чувствую себя слабо очень, спал 10 часов прекрасно, но чувствую близость — не смерти — (смерть скверное, испорченное слово, с которым соединено что-то страшное, а страшного ничего нет) — а чувствую близость перехода, важного и хорошего перехода, перемены. Хотел сказать: перейду к Богу; и это не верно. Если бы во мне не было Бога, то я мог бы сказать: пойду к Богу, а как же я пойду к самому себе. — Чтобы точно выразиться, надо сказать, что я перестану быть человеком. И в этом нет ничего ни дурного, ни хорошего, а только то, что должно быть…»(57.53)
В середине мая:
«Никогда не испытывал такого сильного желания смерти, спокойного и твердого и радостного желания. Кажется, что нечего делать здесь. Разумеется, только кажется»(57.67).
Через месяц, в середине июня 1909 года:
«В первый раз вчера испытал очень радостное чувство полной преданности воле Его, полного равнодушия к тому, что будет со мною, отсутствия всякого желания, кроме одного: делать то, чего Он хочет (я сейчас испытываю это). Я и прежде, давно уже познал это, как истину, открытую мне разумом, но только теперь испытал это как чувство — чувство обращения к Нему и желания получения указания от Него: что же делать? — Привык к молитве и к ожиданию ответа на человеческие речи. Но это самообман. Ответ есть в душе. Благодарю Тебя. Как хорошо! Чую ответ, и так радостно, что выступают слезы»(57.81).
«И, удивительное дело, в 81 год только только начинаю понимать жизнь и жить»(57.185).
Из письма дочери Татьяне Львовне в октябре 1909 года:
«Мне хорошо, даже очень хорошо, не по заслугам. Если есть на что пожаловаться, то — усталость, не физическая и не нравственная, а как бы сказать, деловитая усталость жизни. Допахал пашню, а еще рано, а на другую переезжать не к чему. И хочется на ночлег, от нечего делать спать, а мне умереть слишком хочется. Может быть, это временное, но есть очень сильно. Да уж и пора»(80.144).
Кончился 1909 год. Наступил последний год жизни Льва Николаевича Толстого.
Из Дневника 1910 года:
«Чем больше живу, тем меньше понимаю мир вещественный и, напротив, тем все больше и больше сознаю то, чего нельзя понимать, а можно только сознавать»(58.46).
«Пора проснуться, т. е. умереть. Чувствую уже изредка пробуждение и другую, более действительную действительность»(58.21).
27 февраля 1910 года, в записной книжке:
«Заспался, пора проснуться. Начинаю просыпаться уже, начинаю видеть настоящую жизнь и не верить в одно виденье"(58.153).
Из письма, написанного в апреле 1910 года:
«Бояться же смерти, слава Богу, не боюсь и, чем ближе к ней, то всё она мне естественнее и роднее»(81.227).
Из последних писем Черткову:
"Всё ближе и ближе подходит раскрытие наверное благой, предугадываемой тайны, и приближение это не может не привлекать, не радовать меня"(89.202).
"Я мало думал до вчерашнего дня о своих припадках, даже совсем не думал, но вчера я ясно, живо представил себе, как я умру в один из таких припадков. И понял то, что, несмотря на то, что такая смерть в телесном смысле, совершенно без страданий телесных, очень хороша, она в духовном смысле лишает меня тех дорогих минут умирания, которые могут быть так прекрасны. И это привело меня к мысли о том, что, если я лишен по времени этих последних сознательных минут, то ведь в моей власти распространить их на все часы, дни, может быть месяцы, — годы (едва ли), которые предшествуют моей смерти, могу относиться к этим дням, месяцам, так же серьезно, торжественно (не по внешности, а по внутреннему сознанию), как бы я относился к последним минутам сознательно наступившей смерти. И вот эта-то мысль, даже чувство, которое я испытал вчера и испытываю нынче и буду стараться удержать до смерти, меня*) особенно радует, и Вам-то мне и хочется передать ее. — В сущности это всё очень старо, но мне открылось с новой стороны.
Это же чувство и освещает мне мой путь в моем положении и из того, что было и могло бы быть тяжело, делает радость»(89.226).
И, наконец, запись Дневника от 23 октября 1910 года, за несколько дней до ухода из Ясной Поляны и за две недели до смерти:
«Я потерял память всего, почти всего прошедшего, всех моих писаний, всего того, что привело меня к тому сознанию, в каком живу теперь. Никогда думать не мог прежде о том состоянии ежеминутного памятования своего духовного «я» и его требований, в котором живу теперь почти всегда. И это состояние я испытываю без усилий. Оно становится привычным… И этого не могло бы быть, если бы я жил в прошедшем, хотя бы сознавал, помнил прошедшее. Не мог бы я так, как теперь жить большей частью безвременной жизнью в настоящем, как живу теперь. Как же не радоваться потере памяти? Все, что я в прошедшем выработал (хотя бы моя внутренняя работа в писаниях) всем этим я живу, пользуюсь, но самую работу — не помню. Удивительно... Как хорошо! (58.121-122).
Выше состояния человека, чем состояние ежеминутного и без усилий «памятования своего духовного Я и его требований» уже быть не может. Лев Толстой дошел до вершины Пути восхождения. И, дойдя до вершины, ушел из этой жизни, перестал быть земным человеком. «И в этом нет ничего ни дурного, ни хорошего, а только то, что должно быть…».
14 (65)
Одну черту состояния Птицы Небесной, черту надмирности и полной отвлеченности от всего земного, Толстой точно угадал в образе вознесшегося над людьми и миром князя Андрея. Однако князь Андрей достиг состояния Птицы Небесной – и статичен. В жизни же Толстого оказалось, что и это высшее и надмирное состояние динамично, что и Птица Небесная растет духовно.
«Только теперь в 80 лет начинается жизнь»(56.151) – обнаружил Лев Николаевич.
И – какая активная, торжественная и строгая жизнь!
«Всё подвигаюсь в внутренней работе. Никогда не поверил бы, что это возможно в 81 год. Всё большая и большая строгость к себе и от того всё большее и большее удовлетворение. Главные две черты: преданность Его воле и неосуждение в мыслях»(57.84).
«Как будто чувствую и в себе, и в человечестве созревание плода»(57.62).
Состояние жизни князя Андрея перед смертью можно точно назвать состоянием полнейшего «эгоизма духовного», о котором немало говорил Толстой в последний год жизни:
«Самое лучшее и самое худшее — себялюбие, эгоизм. Вопрос только в том: кто тот, кого я люблю больше всего? Если телесный я — дурно, если духовный я, то самое лучшее, что может быть. И этот-то духовный эгоизм я нынче в первый раз на деле в жизни почувствовал,*) и почувствовал всё благо этого»(57.58).
«Отвратителен эгоизм телесный, и нет ничего выше эгоизма духовного, перенесения своего сознания в духовное, вечное, всемирное я. И перенесение это совершается любовью и дает такое благо, испытывая которое ничего больше не нужно»(57.64).
Еще одну грань состояния Птицы Небесной – грань агапической любви – князь Андрей в "Войне и мире" пережил за месяц до смерти (главы о пребывание его в Мытищах). Сорокалетний Толстой не представлял, как в одном человеке и в одно и то же время возможно реально совместить надмирность и любовь; и в романе разводил их. Знание состояния надмирности и, вместе, агапичности пришло к Толстому через много лет, и особенно ясно, когда он сам все более становился Птицей Небесной.
«Удивительное дело, только теперь, на девятом десятке начинаю немного понимать смысл и значение жизни — исполнения не для себя — своей личной жизни и, главное, не для людей исполнения воли Бога — Любви, и в первый раз нынче, в первый день Нового 09 года почувствовал свободу, могущество, радость этого исполнения. Помоги мне быть в Тебе, с Тобою, Тобою»(57.3).
Состояние жизни старца Толстого, Толстого-Птицы Небесной определялось, прежде всего, агапической любовью, но не специально культивируемой любовью-умилением ко всем и ко Всему, а конкретным любовным чувствованием людей вокруг себя – всякого собою. Вот его собственные описания этого удивительного и так мало знакомого людям чувства:
«Сколько ни старался жить только перед Богом – не могу. Не скажу, что забочусь о суждении людей, не скажу, что люблю их, а, несомненно, и неудержимо произвольно чувствую их, так же, как чувствую свое тело, хотя слабее и иначе. (Верно)»(58.51).
Общаясь с человеком, Толстой заботился «не столько о том, чтобы он признал в тебе любовное к нему отношение, сколько о том, чувствуешь ли сам к нему истинную любовь. (Очень важно)»(58.55).
В дополнение несколько цитат из «Пути жизни»:
«Мы сердцем чувствуем, что то, чем мы живем, то, что мы называем своим настоящим «я», то же самое не только в каждом человеке, но и в собаке, и в лошади, и в мыши, и в курице, и в воробье, и в пчеле, даже и в растении».
«Поговори с человеком, вглядись хорошенько в его глаза, и ты почувствуешь, что ты родня ему, что ты как будто прежде, давно знал его. Отчего это? Оттого, что то, чем ты живешь, одно и то же в тебе и в нем».
Призыв: «Пойми самого себя» для Птицы Небесной слышится по-новому:
«Всё живое хочет того же, чего и ты; пойми же самого себя во всяком живом существе».
Когда Толстой в последний год жизни сообщал, что «одна душа во всех» (так назван и раздел «Пути жизни»), то он имел в виду, что одно Я – Я Господа – живет во всех и во Всем. И другого в мире Я нет. Так что необходимость агапической любви обосновывалась им уже не только и не столько с позиций высшей агапической жизненности (которой живет Бог), а на том основании, что во всех людях и во всем живом одно и то же Я Господа.
О любви, как о стремлении слияния душ в одно целое, Толстой говорил все три десятилетия своей проповеднической деятельности. Но теперь в учении о любви появились два принципиально новых момента.
Во-первых, соединение любовью совершается не непосредственно от души к душе, от Я к Я, а опосредованно – через Я Господа. Это графически изображено в письме Л. Д. Семенову от 18 июля 1910 года, которое мы приводили выше в четвертой части.
О том же самом Толстой пишет через неделю и В. А. Лебрену (82.88):
«Спасибо Вам, милый Лебрен, и за короткое письмецо. Вы один из тех людей, связь моя с которыми твердая, не прямая от меня к Вам, а через Бога, казалось бы самая отдаленная, а, напротив, самая близкая и твердая, не по хордам или лучам, а по радиусам: не такая:
а такая:
Не менее существенен и другой новый момент в толстовском учении о любви последнего года жизни.
«Кроме молитвы обычной Отче Наш, Круга Чтения, На каждый день, нужно еще молитву, соответствующую твоему духовному движению. – Пишет Толстой в Дневник 14 января 1910 года. – У меня последние четыре постепенные молитвы были:
1) Ты, Тот, который во мне, помоги мне.
2) Помоги мне быть с Тобою,
3) Помоги мне сознавать себя только Твоим работником,
4) Помоги мне при всяком общении с человеком видеть себя в нем»(58.8).
То, о чем сказано в этой последней, четвертой молитве, сразу и уразуметь трудно.
Нам знакома формула агапической любви: «Я во Всем, и Всё во мне». Нам знакома формула сторгической любви: «Ты – мое другое Я». С этой последней формулой Толстой производит удивительную операцию: он переворачивает ее: «Я – его другое я».
Перенесение себя в другое "я" не то же самое, что перенесение другого "я" в себя.
"Есть любовь к высшему, когда преклоняешься перед любимым /такова обычно, и сторгическая и часто предшествующая ей любовь-влюбление. – И. М./. И есть любовь, и самая нужная – перенесение себя в другого, страдающего человека, сострадание, желание не быть им и вместе с тем сознание того, что ты в нем"/43.314./.
В этом смысле «интерес жизни должен быть не «я», а «ты», или ОН»(56.141). Надо стараться выработать в себе такую любовь к каждому человеку, в том числе и к врагу. Любовь по перевернутой сторгической формуле максимально близка к надмирной агапической любви, к "любви к любви", к любви по шестой заповеди Нагорной проповеди. Она, утверждает Толстой, хотя бы намеком есть в каждой душе:
"Когда я говорю другому: "душа моя", я чувствую то, что признаю в нем свою душу. Поэтому и люблю его, что в нем моя душа"(44.266).
Любовь по перевернутой сторгической формуле это не столько род любви к ближнему, сколько род любви к Богу, любви, в которой человек только и способен на общение с Богом. «Мы молимся словами. — А общение с Ним, Богом возможно не словами, а только любовью»(58.42).
"Общение человека с человеком есть единственное и величайшее таинство: сознания себя /Бога/ в другом. Только бы понимать это таинство"/57.76./.
В этом «единственном и величайшем таинстве» – Богоугождение Птицы Небесной. Через такое сознание и такую любовь теперь признается возможным то, что ранее Толстым признавалось совершенно невозможным: познание Бога в Нем Самом.
«Можно сознавать Бога в себе самом (в своей душе. – И. М.). Когда сознаешь Его в себе самом, то сознаешь Его и в других существах (и особенно живо в людях). Когда сознаешь Его в себе и в других существах, то сознаешь Его и в Нем самом»(58.120).
Но при этом:
«Мало того, что «Бога никто не видел нигде», но и постигнуть Его не во власти человека. Как сказал кто-то: знаем закон и источник, причину закона, и не только причину закона, но и причину моей жизни. Но какова эта причина — не то, что не могу постигнуть, но знаю, что и не могу пытаться; хвалить, просить, каяться — всё это невозможно по отношению к Богу. Не то, что Он не слышит этого, но это не подобающее Ему отношение, как если бы хотел сказать: козявка бы испытывала закон тяготения, просила бы, хвалила, каялась по отношению к движению небесных тел. Но это всё не то»(57.99).
Но именно с помощью закона всемирного тяготения Толстой через год после этой записи объясняет свое понимание любви к Богу и понимания Его человеком.
"Какое хорошее сравнение Бога с центром тяготения. Закон Бога мы знаем так же несомненно, как закон тяготения. Тот же закон любви к Богу, как и закон тяготения к общему центру тяготения и, как тот же закон между отдельными предметами вещества, так и тот же закон любви между отдельными людьми. Но так же, как мы не знаем, не можем даже представить себе всеобщего центра тяготения, мы не можем и представить себе Бога. Но, как несомненно, что есть этот центр, так же несомненно, что есть Бог.
Грубое представление тяготения: верх и низ, падаешь не вверх, а вниз; грубое представление Бога: личность и сверхчеловек. Более глубокое — тянет земля, тянет солнце, тянет какой-то центр; Бог—идол, Бог – Христос, Бог — лицо, Бог — X"(58.167).
Состояние жизни Птицы Небесной – это состояние наибольшего тяготения к Всеобщему Центру духовного тяготения и знания Его.
Человек, по Толстому, есть прежде всего «отношение». И теперь на первый план выходят вопросы отношения человека и Всего, отношения Я человека и Я Господа.
Только во второй половине 1909 года Толстой «в первый раз понял то, что есмъ одно из бесконечно малых проявлений жизни по отношению к бесконечно великой жизни, и потому мое отношение одно: я есмь почти ничто, но я есмь по отношению Всего. Нет, нельзя или не умею выразить не то что понятие Бога, но своего отношения к Нему»(57.99).
Если «Я» человека есть по сути некое «отношение» к Я Бога, то – какое отношение?
Мысль о том, что человек – орган Бога, и раньше нередко возникала у Толстого.
«Как удивительно проста разгадка жизни. – Пишет он в 1908 году. – Жизнь личности – Льва, Петра, Ивана – нелепое заблуждение. Живет во мне Бог, а я – Его орган. «Бог живет во всех, но не все знают это». Да, удивительно хорошо на душе»(56.118).
В 1909 году это положение определилось:
«Насколько мой мизинец может сознавать себя — он может, когда я хочу сознавать его — настолько и я могу, когда Бог сознает себя во мне, сознавать себя. Но насколько мизинец не может понять всего тела, настолько я не могу понять Бога, который сознает себя во мне»(57.99). И между тем: «Если это так, то как страдание одной части моего тела вызывает сознание этой части, так точно и страдание мое, всего моего существа вызывает сознание Богом моего «я» (57.116).
Окончательно Толстым утверждено такое положение:
«Думал сейчас, при чтении прекрасных дней На Каждый День, о том, что то, что я сознаю своим «я», есть сознание Богом самого себя через весь мир, в том числе и через меня. От этого-то Бог есть любовь. Может казаться неясно, но мне и ясно, и умиленно радостно»(57.148-9).
Отсюда, в качестве приложения к сказанному, установка для практической жизни:
«1) Первое и самое главное: Нет меня, моего я, а есть только моя обязанность перед Ним»(57.156).
«Не делай только того, что противно Его воле и воле твоего настоящего «я», и ты будешь делать то самое нужное и хорошее, что ты можешь сделать… Мы в своей ограниченности не можем видеть, в чем наше служение. Да, наше служение только тогда действительно, когда мы не знаем, в чем оно, а знаем только то, чего мы должны не делать. Делать, хотим мы этого или не хотим, мы будем. Усилие наше только в том, чтобы не делать против Его воли — не сбиваться с дороги»(57.14).
Другое, что характеризует «отношение» ко Всему, это сугубая неподвижность Я по отношению к движению Мира.
«Да, сначала кажется, что мир движется во времени, и я иду вместе с ним, но чем дальше живешь и чем больше духовной жизнью, тем яснее становится, что мир движется, а ты стоишь. Иногда ясно сознаешь, иногда опять впадаешь в заблуждение, что ты движешься со временем. Когда же понимаешь свою неподвижность – независимость от времени, понимаешь и то, что не только мир движется, а ты стоишь, но с миром вместе движется твое тело: ты седеешь, беззубеешь, слабеешь, болеешь, но это все делается с твоим телом, с тем, что не ты. А ты все тот же — один и тот же всегда: 8-летний и 82-летний»(58.103).
«Если время идет, то должно быть то, что стоит. Стоит сознание моего «я»(58.9).
«Чем больше сознает человек свою духовность, тем яснее он понимает обман своего, кажущегося движения во времени»(58.98).
Может показаться, что Толстой годами твердит одно и то же. Еще в «формулах жизни» (в 1902 и в 1903 годах) он утверждал, что духовное начало, обитающее в человеке, неподвижно, а движутся его пределы отделенности. Примерно то же самое и с теми же выражениями мысли пишет Толстой и в 1910 году (см. 89.154). Совпадения очевидны. Но есть и существенное различие. Тогда Толстой шел ко второму духовному рождению, был на подходах к состоянию Птицы Небесной, и освобождение от заблуждения движения духовного существа было необходимо ему в прикладных целях – для того, чтобы восторжествовала добродетель и «то, что составляет основу всех добродетелей: вытекает любовь… самоотвержение, воздержание, бесстрашие, вытекает усиленное, уясненное требование того, что мы называем совестью, что есть не что иное, как сознание своей духовности» и что, в свою очередь, дает наибольшее благо человеку как таковому.
Теперь, после второго духовного рождения, ему важно само по себе положение о неподвижности сознания духовного Я, а не то, что из него «вытекает». Совсем другое ударение в мысли. В соответствии с требованиями состояния жизни Птицы Небесной ударение мысли выставляется не столько на добродетелях и любви и не столько на благе человека или человечества, сколько – в соответствии с принципом «духовного эгоизма» – на себе духовном, на добывании коренного Я из-под завалов ложного я – иначе: на обретении Я отдельно взятого человека все большей и большей подлинности и всемирности.
«Думал о том, что основа призрачности жизни в том, что мы называем движением… Т. е., что движение то, без чего мы не может мыслить, понимать, сознавать жизнь, есть только призрак такой же, как тот, когда тебе, стоящему неподвижно, тогда как всё со всех сторон равномерно бежит вокруг тебя, кажется, что всё стоит, а бежишь ты. Точно то же совершается и с основной сущностью человеческого «я»(57.101).
Подлинность Я добывается тем, что Толстой называет так же, как и многие мудрецы до него – «освобождением», освобождением от чувства-сознания призрачности собственно человеческого «я». Такое самоотречение иногда граничит с самоотрицанием, отрицанием Льва, Петра, Ивана, как иллюзорного, фиктивного, не существующего образования – тени истинного Я.
«Самоотречение?! Разве можно отрекаться от себя, когда "я" – только я телесное. Самоотречение есть отречение от того, что я ошибочно считаю собою. Самоотречение есть признание своей Божественности, вечности»(57.62).
«Что же такое жизнь? Раскрытие, освобождение от затемнения, застилания этого неподвижного я, от призрачности движения, в пространстве и времени. Жизнь, как каждого отдельного существа, так и всего мира есть это освобождение, благо все увеличивающееся и увеличивающееся этого освобождения. Зачем? Для чего это так? Для чего нужен этот процесс освобождения, т. е. жизнь? Это не дано знать человеку. Одно, что дано знать ему, это то, что в этом благо, великое благо жизни. И знание этого, подчинение этому закону увеличивает это благо»(57.101-2).
«Время и движение, пространство и вещество суть только формы нашего ограничения, отделенности от «Всего». И потому движение, прогресс всего человечества не имеет реального значения. Реально только наше духовное совершенствование, которое не есть движение, а только освобождение от того, что скрывает совершенство, что отделяет нас от него, от Бога»(79.116).
«Сейчас подумал очень странное, а именно, что для того, чтобы быть с Богом, быть в настоящем, быть неподвижным, надо не переставая двигаться, т. е. что для того, чтобы быть с неподвижным, вечным, надо не переставая отодвигать то, что отделяет от Него»(57.187).
Стремление к подлинности Я или стремление к его «освобождению» равнозначно стремлению «взлететь», стать Птицей Небесной. В самом усилии освобождения от призрачности собственно человеческого Я – одна из сторон духовного роста Птицы Небесной.
Вершина земной жизни – в жизни несмертной, неземной, небесной, в жизни иного рода. Это значит, что между ними есть связь и что то и то в некотором роде – оно и то же. Отсюда учение монизма жизни. Духовный монизм, или монизм жизни, признает подлинность существования только духа или жизни и иллюзорность существования всего вещественного, материального. Толстой последнего года жизни признает подлинность существования только за вселенским Я и иллюзорность всякого иного «я», связанного с материальной жизнью, с жизнью тела. И все же я бы поостерегся говорить о монотеистическом уклоне во взглядах Толстого. Метафизическое учение Толстого условно можно назвать монизмом жизни Я.
«Одно и только одно, мы несомненно знаем, это одно единственно несомненно и прежде всего известное нам есть наше "я", наша душа, т. е. та бестелесная сила, которая связана с нашим телом. А потому и всякое определение чего бы то ни было в жизни, всякое знание в основе своей имеет это одно, общее всем людям знание»(58.105).
По сути дела, Толстой отрицает подлинность существования низшей души и плоти и считает, что человек призван к делу освобождения вселенского Я, обитающего в нем, от призрака того, что Лев Николаевич прежде называл «животной личностью» и теперь предпочитает называть «телесной личностью». Подлинное Я обладает вневременным и внепространственным сознанием жизни Всего – сознанием нераздельности. И «если мы сознаем себя отделенными, то это от того, что мы были (слово: «были» неверно, потому что выражает время тогда, когда дело идет о вневременном) нераздельными, или скорее: то, что мы сознаем себя отделенными, это только иллюзорное, или «временное» сознание, а в действительности мы не перестаем быть одно со всем (на религиозном языке это значит, что в нас живет Бог)»(57.21).
Если то «я», которое обладает сознанием отделенности, иллюзорно, то нечего говорить и об иллюзорности сознания пределов отделенности (времени, пространства и движения) и тем более об иллюзорности самих пределов отделенности (материи, вещества, телесности). Отсюда новое качество монизма у Толстого последнего года жизни.
С одной стороны, мы вроде бы наблюдаем ужесточение духовно-монистических взглядов Толстого:
«Ни про что вещественное нельзя сказать, что оно есть. Всё вещественное только происходит и проходит. Если что есть, то только то, что невещественно»(57.163).
«На 2-й вопрос о том, как может дух существовать без материи, – отвечает Толстой своему корреспонденту 10 марта 1910 года, – так как, по-вашему, материя такое же основное и вечное начало жизни, как и дух, отвечаю тем, что материя не только не такое основное и вечное начало жизни, как дух, но что материя вовсе не существует сама по себе, а есть только наше представление. Мы знаем несомненно только одно свое духовное «я», материальное же всё есть только представление, получаемое нашим духовным «я», которое одно существует»(81.136).
И все же без «материи» Бог не был бы «Богом живым».
«Если есть какой-нибудь Бог, то только тот, которого я знаю в себе, как самого себя, а также и во всем живом. Говорят: нет материи, вещества. Нет, она есть, но она только то, посредством чего Бог не есть ничто, не есть не живой, но живой Бог, посредством чего Он живет во мне и во всем. Зачем, это я не знаю, но знаю что это есть»(58.108).
И при этом – поразительный накал веры, основанной на чисто толстовском чувстве жизни:
«Да, делается что-то в этом мире, и делается всеми живыми существами, и делается мной, моей жизнью. – Сказано в «Пути жизни». – Иначе для чего бы было это солнце, эти весны, зимы и для чего эти страдания, рождения, смерти, злодейства, для чего все эти отдельные существа, очевидно, не имеющие для меня смысла и вместе с тем живущие во всю силу, так хранящие свою жизнь, существа, в которых так крепко завинчена жизнь. Жизнь этих существ более всего меня убеждает, что всё это нужно для какого-то дела, разумного, доброго, но недоступного мне».
15 (66)
Метафизика, предоставленная сама себе, развивается в колее общедушевного творчества, то есть говорит то, что может привлечь и вдохновить любителя метафизики, в то же время подтверждая основную религиозную легенду и оправдывая и наполняя смыслом существование людей в конфессиональном строю. Оттого она говорит много больше того, что ведает. Толстой прозревал и думал не для других людей, не ввиду читателя, интересующегося метафизическими проблемами, а для себя, для нужд своей – и всеобщей – жизни. Думающий для себя Толстой следил за тем, чтобы «не сказать больше», не зарваться, не обмануть себя и других своим воображением, не подменить истинное человеческим творчеством.
«Самое важное и значительное — это выяснение того, что при настоящем строгом мышлении неизбежно: тот, кто думает, что мыслит, претворяется (становится. – И. М.) в то, что он мыслит, т. е. человек приведен к необходимости признания себя Богом. Тут тайна. И важнее всего знать, где остановиться»(89.219).
Ставить мировоззрение Толстого в ряд других метафизических учений и сопоставлять их надо крайне осторожно. Метафизика Толстого и его состояние сознания в последние годы – одно целое. Метафизику Толстого надо брать не саму по себе (и, тем более не фрагментарно), а в целостном восприятии с его состоянием жизни, состоянием человека, находящегося на одной из Вершин Пути восхождения.
Лев Толстой, в отличие от всех нас грешных, не был подвержен чужим влияниям. На Толстого (разве кроме брата Николая Николаевича в юности) никто и никогда не оказывал устойчивого влияния. Лев Толстой радовался, встречая подтверждения своим мыслям у других мыслителей и в других учениях, говорил, что все учат одному и тому же (чему и он), но утверждать, что Толстой думал по подсказке (разных религиозных учений или философов) или в результате воздействия на него извне – значит совсем не знать Толстого. Толстой – не только человек душевно и духовно исключительно самобытный, но и совершенно автономный, в максимальной степени самостоятельно мыслящий и чувствующий. По своей природе и по независимости своей духовной жизни он – первооткрыватель и зачинатель. Скорее уж, концепции других учителей человечества он приноравливал (иногда весьма откровенно) под свои взгляды и установки жизни. Послушать Толстого, так и Христос, и Будда, и Лао-Цзы, и Кришна утверждали то же, что он.
Толстой – тот, кто сам отвечает, а не тот, кто у кого-то ищет ответы. Под конец жизни он взошел на такие вершины, что людям следует идти к нему за ответами по коренным вопросам жизни.
Лев Толстой вообще предпочитает не отталкиваться, а, с кем только можно, совмещаться и объединяться и, кроме самоочевидных случаев, не выявлять свои расхождения с установками мысли других религиозных учителей мира. Он старается толковать всех и всё в объединяющем духе.*) Он брал себе в сопутники Кришну и Будду, через века протягивал руку им, но не кришнаитам и не буддистам. Живи Толстой среди них, и он бы высказывался о них никак не лучше, чем о «православных». У Толстого нет агитационного жара, нет рассчитанного на общее употребление жеста лицедейства мудрости (тем более напоенной чуждой общедуховностью), и уж совсем нет необходимого толпе камуфляжа высшего знания. В мышлении его нет ничего мифопоэтического. Не мудрено, что приводимые в переводе цитаты разных учений при сравнении их с толстовскими часто работают на понижение или затуманивание смысла слов Льва Николаевича .
Хотя, конечно, метафизические взгляды Толстого не новость для человечества. Знания, подобные толстовским, идут из глубокой древности. Вслед за немногими другими людьми в истории человечества Лев Толстой встал в такое положение, при котором в человеке проступает жизнь вечная. Изучая мистику и метафизику Толстого, мы прикасаемся к чистому источнику, из которого мудрецы и проповедники всех времен черпали свои прозрения. И Толстой сознавал свое сродство по этому источнику с Кришной и Буддой, Сократом и Марком Аврелием, Паскалем и Виваканандой.
П. П. Николаев провел подробный сравнительный анализ учения Толстого («истинно христианского учения» духовного монизма) и учений основных мировых религий и философских систем, начиная с Древности и до начала ХХ века. Мы отсылаем читателя к его трудам. Скажем только, что слова «освобождение», «просветление» и особенно «пробуждение» самостоятельно возникли в лексиконе Толстого, но несут примерно ту же смысловую нагрузку, что в индуизме, даосизме, буддизме. Отличие толстовской религии от этих религий следует искать не в теоретических посылках, не столько в общих взглядах на Мир, Абсолют или вселенскую жизнь (где множество внешних и внутренних совпадений и расхождений), а в учении о прохождении земной жизни человеком и в практике этого жизнепрохождения.
Надо ли говорить, что психотехника играет в указанных учениях определяющую роль. В индуистской и буддийской практике йога*) – единственный путь к достижению высшей религиозной цели. Представить Толстого в образе йогина столь же невозможно, как в образе диск-жокея. Медитация, мантры, сосредоточение внимания и искусственное погружение в себя, техника экстаза и вообще всякая направленная переустройка психики столь несовместима с чувством жизни Льва Николаевича и с его учением о жизни, столь неуместна в толстовском мире, что обо всем этом в связи с Толстым нельзя и думать.
Лев Николаевич всегда принимал существующую действительность как то, что необходимо для духовной работы человека. Вспомним хотя бы учение Толстого о «кресте своем», о кресте своей низшей души, который надо нести каждый день и в этом несении и жизнепрохождении производить в страданиях души и тела то, что нужно Богу, то, зачем человек послан в мир, – все это невозможно в буддизме и индуизме. Вспомним и то, что «вечная тревога, труд, борьба, лишения – это необходимые условия, из которых не должен сметь выйти хоть на секунду ни один человек».
Толстой не считал зазорным включаться во все проблемы земной жизни, сам активно вмешивался в современную ему общественную жизнь, и во всех концах света.*) И при этом не трубил о своем «просветлении» и о сокровенном знании Бога в себе. Он вообще – кроме как себе в Дневнике и на ухо самым духовно близким людям – не говорил об этом. Словно это его сугубо личное дело. Так оно, впрочем, и было.
В последние старческие годы Толстой желал спокойствия души для себя и нередко писал об этом, но никогда не учил людей руководствоваться в жизни стремлением к душевному затишью. Человек всегда обязан стремиться выполнять работу, которую завершить нельзя, и потому должное и желаемое состояние жизни, по Толстому, определяется не переживанием умиротворения, блаженства, надмирности, тишины и спокойствия, а тем, про что он говорил: «Хорошо». Хорошо – радость и муки душевного труда и духовного роста, преодоление беспрерывно поставляемых жизнью препятствий, а не «обход» их и не их ликвидация.
Одна дорога в жизни – идти прямо в гору, одолевать подъемы и опасности, преодолевать всевозможнейшие «препятствия», другая – идти в обход, обходить гору, избегать восхождения, крутизны жизни и ее нешуточных угроз. Подлинный Путь жизни человека – через гору и желательно не через перевалы даже, а непосредственно – на Вершину и через Вершину. Так что на йоговскую практику, глядя с позиции Толстого, надо смотреть как на «обходы», а не как на подлинную работу, заданную человеку Богом.
Для достижения состояния пробуждения, освобождения, просветления, теоретически говоря, достаточно произвести простую операцию: вычесть из Структуры человека все то (это «вычитаемое» Толстой называл «животной личностью»), что закрывает вселенскую сущность высшей души человека. Отличие практики толстовского учения от практик индуизма и буддизма в том, что Толстой иначе «вычитает личность», чем они. Первые психотехническими или аскетическими приемами стремятся стереть «животную личность» из состава человека, отделаться от ее существования в мире (пусть и считающегося иллюзорным). Толстой же заставляет ее работать на духовный рост. У него не самоотрицание, а самоотвержение, построенное на «преодолении препятствий», могущих быть поставленными человеку в его земном жизнедействии только животной личностью. На низшую душу, на животную личность следует в первую очередь воздействовать не волей, которая умаляет и обессиливает эту душу (по Толстому это почти ничего не дает) и не тем, что искусственно погасить ее до такой степени, при которой она не мешает психотехнической практике (дает возможность заниматься ею), а почти исключительно усилением роли и значения высшей души в человеке, которая благодаря своему сравнительному с низшей душой могуществу, сокрытому, но ею же и добытому, проделывает работу человеческой жизни. Йоговская (в самом широком смысле йоги) практика духовного делания – это ликвидация самой возможности той духовной работы, на совершении которой только и настаивал Лев Толстой.
Даосские мотивы единения с природой как таковой и следования своей изначальной природе нетрудно найти и у Толстого. Но у него они имеют прикладное значение – натуральность животной личности, ее неизвращенность и невозбужденность необходима для возможности продуктивного преодоления ее высшей душою, которая иначе справиться с ней, практически говоря, не сможет.
Путь восхождения человека, учит Толстой, должен иметь три стадии.
«Да, несомненно, все люди должны переживать три степени ясности сознания. Первая – когда ограниченность Божественной силы в тебе принимаешь за отдельное существо. Не видишь своей связи с бесконечным началом. Второе – когда видишь, что сущность твоей жизни есть дух, но, не отрешившись от понятия своей отдельности, что твой дух в теле – отдельное существо – душа. И третье – когда сознаешь себя ограниченным проявлением Бога, т. е. единого истинно существующего невременного и непространственного. – От этого три рода жизни: а) жизнь для себя, б) жизнь для людей и в) жизнь для Бога»(55.40).
При этом каждая стадия имеет возрастные границы. Первая стадия – лет до 30, вторая – от 30 до 70, и третья стадия, стадия Птицы Небесной, «сознания уже не отдельного духовного существа, а сознания своей причастности к вечному, бесконечному»(55.25) – начинается после 70 лет. Почему же только в 70 лет? Да потому, что времени жизни раньше этого возраста не хватит высшей душе для того, чтобы выработать ресурсы низшей души. А «вычесть» ее можно, конечно, и в 20 лет. Рабочие ресурсы животной личности рассчитаны на всю дистанцию жизни человека, земной части всего того «круга», о котором говорилось выше.
Тезисы морального учения Толстого без труда можно найти в любом традиционном индуистском, буддийском, даосском учении*). Однако они провозглашаются тут не так, как у Толстого, – не только не поставлены во главу угла, но нужны тут в качестве подготовительных условий, предваряющих основное духовное действие – применение собственно психотехнических средств, действие которых только и ведет к искомому результату. Исполнение моральных требований в этих религиях, как правило, жесткие, но вполне холодные и не могут быть иными. О нравственном экстазе или тем более о свободном нравственном вдохновении, как у Толстого, в них не может быть и речи, так как такое состояние души мгновенно сделало бы нравственные постулаты самоценными, первостепенными, всё себе подчиняющими и самодостаточными.
Любовь к ближнему (то есть к своему) настолько выигрышная декларация, что ни одна общедуховная религия не может себе позволить не педалировать ее. Учение о любви есть всюду, и сам Лев Николаевич не уставал подчеркивать это. В некоторых индуистских учениях, ставших известными на Западе и в России и даже прижившихся здесь, любовь вроде бы играет определяющую роль.*) Во всяком случае, адепты этих учений и практик могут так представить дело. Но это не совсем так. Любовь (к ближнему, к Богу, если такой признается) в указанных учениях и практиках играет либо всю ту же предваряющую центральное действие роль, либо употребляется для создания общего и основного фона, на котором разворачивается собственно психотехническое поле действия, либо сама любовь используется как особый тип психотехнического действия, в качестве техники экстаза самой по себе. Наивысшим взаимоотношением Бога и человека в этих учениях считается отношение как возлюбленных, при котором человек получает от соединения с Богом своего рода эротическое наслаждение. Такая же любовь к Богу демонстрируется в библейской «Песни Песней», она практикуется и в суфизме, что-то похожее испытывала в экстазе св. Тереза Авильская и, как рассказывают, множество других монахинь. Всё это не имеет никакого касательства к жизнечувствованию Толстого и его переживанию Бога.
Да, человек оказался в сансаре, в страданиях сансары, вне Абсолюта. Ему плохо? Значит, такое положение надо исправить, выправить, то есть исключить человека из сансары и возвратить его в лоно Бога, где его изначальная Обитель, в которой ему предоставляются все блага. Это род человеческой деятельности для себя и на самого себя. Такая позиция совершенно чужда Толстому, который не столько исправляет, выправляет, сколько срабатывает, вырабатывает земного человека. Нирвана, сатори, кэнсё, «причастность Божественному естеству» (по ап. Павлу) и прочие аналоги трансперсонального переживания онтологического Единства – все это на другой стороне горы жизни, куда самоцельно заходить человеку незачем. Такое самовольство граничит с хитростью отказа от предназначенной человеку работы. Духовная работа, по Толстому, и совершается в «сансаре», а не в сокрытой части «круга», труды которого – не порученное человеку дело.
Как и любое другое живое существо, человек все равно совершит указанный Толстым «круг» и возвратится туда, откуда исшел, к Богу. Специально добиваться этого ему не нужно, это сделается само собой, через смерть. Возвращение обратно, к Богу, не означает, что в этом-то и состоит предназначенная человеку от Бога работа. Человек выпущен на «круг», чтобы на земной дистанции «круга» что-то успеть сработать для Бога. Человек живет не затем, чтобы раньше срока завершить «круг» (что значит выйти из работы), войти в состояние сознания единения с Богом, чтобы больше из него не выйти. Человек живет затем, чтобы, будучи человеком, осуществить то, зачем послан, выполнить работу и выполнять столько раз, сколько нужно Посылающему его. Важно знать не зачем эта работа, а что это за работа.
Христианская концепция земной жизни человека сводится к вопросу посмертной участи его: в земной жизни человека решается, куда он попадет после смерти – к Богу или Дьяволу, в Рай или Ад. На Земле у Господа Бога нет важнее задачи, как спасти грешного человека и доставить ему все мыслимые блага. Тут Бог работает на человека. На человека нацелены и восточные религии, учащие трансформации сознания. Буддизм учит, как достичь состояния совершенного нестрадания, даосизм – как достичь состояния подлинного естества, индуизм в самых разных видах учит, как человеку достичь состояния всей полноты жизни. Бога или же вообще нет, или Он тут присутствует (иногда участвуя, иногда – нет), поскольку нужен человеку. Цель в буддизме, индуизме, даосизме – выход из жизни земной в жизнь вечную, достижение того или иного состояния внеземной или вселенской жизни. Учение же Толстого нацелено на жизнь вечную в ином смысле. Толстой учит жить земной жизнью – со всеми ее страданиями и волнениями – и черпать из нее материал для работы на неведомые человеку нужды Жизни вечной и вселенской.
Общедуховная религия (любая), чтобы быть и остаться таковой, обязательно должна быть нацелена на человека. Людям в ней важнее всего то, что они, придерживаясь ее, попадут в рай или, что то же самое, при помощи бодхисаттв или сами по себе, все вместе или по одному обретут блаженство вечной жизни. При этом условии человек готов «работать на Бога», выполнять его предписания, обеты, жертвы и все другое. Человек толпы находится в рамках общедуховной жизни (только для него и возможной), и потому строго бескорыстное служение Богу для него невозможно. Иное дело личная духовная жизнь.
Думать о своей личной участи (даже в мистическом плане) для адепта личной духовной религии – слабость, недостоинство, что-то зазорное. Ему надлежит думать о Боге и только о Боге, и не в смысле любовного или иного отношения к Нему, а об исполнении Его Воли. Главный вопрос в личной духовной религии: какова Воля Бога на человека?
Отношение Бога и человека в рамках личной духовной религии четко описаны Толстым как отношение Хозяина и работника или Пославшего и посланца. Работник или посланец своей воли иметь не должен, он должен лишь исполнять Его Волю. Какие-либо корыстные побуждения в состоянии нравственного вдохновения (даже не самого высшего образца) невозможны. Ты исполняешь Волю Хозяина, даже если это исполнение совсем не предусматривает твое благо. У Бога свои цели и задачи, которые не обязательно совпадают с дарованием блага (а тем более благ) человеку. В этом смысл девиза, постоянно повторяемого Толстым для себя:
«Да будет Воля Твоя, и не моя и Твоя, а только Твоя».
Человек – орган или даже орудие, «самодвижущая лопата» Бога, дело которой копать, а не думать о том, что из этого будет.
Человек зачем-то послан Богом на Землю, с какой-то неведомой ему целью. Ему не обязательно знать Замысел и Цель, в соответствии с которыми установлена Его Воля, Его Закон человеку. Зачем нужно то, что назначено делать – знает только Бог, человеку же положено знать Его Волю на себя, то есть положенную ему работу и исполнять ее. Такова исходная установка Толстого.
Какова же Воля Бога-Хозяина на работника-человека? Где ее узнать? Для пятидесятипятилетнего Толстого, конечно, в Евангелии, и более всего – в заповедях Нагорной проповеди. Исполнимы они или идеальны? Не имеет значения. Сказано: не противься злу насилием – значит, никогда, ни в каких случаях употреблять насилие нельзя. Если при этом, при исполнении Воли Бога, придется погибнуть – значит придется. Ибо не Бог для человека, а только человек для Бога.
Впрочем, вскоре Толстой обнаружил, что Воля Бога не столько в самом по себе исполнении заповедей Нагорной проповеди, сколько в личном духовном росте человека и в его стремлении к единению любовью, чему более всего способствуют Евангельские нравственные принципы. Но если рост (восхождение), то – куда-то? Вот это прямо не дано знать человеку и, следовательно, ему, в его качестве работника и только работника, и не нужно знать. Что-то непременно произойдет от духовных трудов человека, они имеют смысл, но смысл этот знает Бог, а не человек.
Если главное знание человека – знание Его задания ему, то, разумеется, главная забота Толстого – со всех возможных сторон подтвердить добытое им знание этого Задания. Отсюда и его обращение за поддержкой к Разуму, и к авторитету Иисуса, и к основателям других религий, и к мудрецам всех времен и народов. Толстой не стремится быть оригинальным, напротив, желает быть заодно со всеми. Ведь только так, вместе со всеми, можно быть уверенным в том, что верно определяешь Волю Бога.
Конечно, можно не доверять Толстому в том, что он верно определил Волю Бога на человека. Но при этом ответить себе – кто я: работник "в чужом" саду или любимый сын, ждущий воцарения? Если я в Саду и если мне дано задание (по возделыванию Сада?), но не толстовское, то – каково оно? Неужели мне только надлежит воскреснуть, попасть в рай и блаженствовать без меры и конца? Свободное нравственное чувство Толстого всегда восставало против такого представления.
Задание от Бога для человека-работника логично определять, исходя из того, каким человек создан, то есть искать это задание в устройстве его внутреннего мира, в Структуре человека. Наличие высшей и низшей души предполагает как стремление не погубить, сохранить высшую душу, так и рабочий процесс духовного роста – все большее и большее перенесение центра тяжести жизни человека и ее ударение с низшей души на высшую. Знания, получаемые в состоянии «просветления», используются Толстым для обоснования необходимости работы духовного роста, а не для завлечения адептов на путь просветления.
Далее. Человек-работник обязан добыть что-то высшее в работе своей земной жизни. Что же? Включить (или максимально активно задействовать) в земном существовании высшую жизненность, решает Толстой. Жизненность есть Любовь. Высшая Жизненность есть агапическая Любовь. Она же и единственно подлинная Жизненность в Существующем. По этой причине труд по задействованию агапической жизненности есть для Толстого Закон жизни человека.
Буддизм смотрит на жизнь человека с точки зрения освобождения его от страданий. По Толстому же, надо быть всегда готовым на работу страдания.*) Будда желал облагодетельствовать человечество, Толстой же – служить Богу. Однако параллели между жизнью того и другого напрашиваются сами собой. Подобно Будде, потрясенному видом страданий, смерти, нищеты, Толстой во времена духовного перелома «чуть не сошел с ума, видя людей вокруг себя» и удивляясь, как они не режут друг друга. Подобно Будде, который не стал искать ответы на свои вопросы ни у учителей существовавшей тогда религиозной традиции, ни у отшельников-сектантов, и Лев Толстой не стал опираться на какую-либо из существующих доктрин и решил все познать сам. Как и Будда, Толстой отверг Творение, грехопадение (утрату изначального совершенного состояния) и «дживу» – понятие, вполне соответствующее толстовской «животной личности». Евангелия для Толстого, как и Веды для принца Сиддхарти, авторитетны и священны. И как Веды для Будды, так и Евангелия для Толстого, священны вовсе не потому, что их надиктовал Бог. "Четверичный" путь самосовершенствования, изложенный Толстым в "Христианском учении", для практического воплощения толстовского учения примерно то же, что "восьмеричный путь нравственного делания" в буддийской практике. Будда достиг полной нирваны. Толстой, конечно, не стремился к этому, но по собственному трансперсональному опыту хорошо знал, что это такое. Как Будда стремился к состоянию нирваны, так Толстой стремился к агапическому состоянию. Однако нирвана – состояние Сознания, агапическое же состояние – состояние чувства жизни, состояние Любви. Но и Будда, и Толстой – люди одиночного Пути жизни, в сверхчеловеческих трудах, долгим путем личного духовного опыта достигшие новых Вершин духовной жизни.
Толстой достигал состояния просветления, не прибегая к психотехнике, не употребляя ЛСД, без внушения или самовнушения, не живя в монастыре или хотя бы монашеской жизнью, напротив, живя в обстановке семейного раздражения (при которой чрезвычайно трудно быть в созерцании), живо откликаясь на ежедневные события общественной и даже политической жизни, находясь в центре внимания всех, получая со всех сторон угрозы и уколы, в атмосфере постоянной клеветы и измены, в особого рода духовном одиночестве, коря только себя за все, что происходит с ним в жизни, вынужденно борясь с теми, кого вообще не должно было быть на пути мудреца такого масштаба. Толстой достигал высшего состояния сознания пусть и нестабильного, но исключительно путем собственного духовного роста. Так, как будто достигал его впервые в человечестве, не опираясь ни на какой чужой опыт. Вполне резонно предположить, что духовная трансформация человека в незапамятные времена была открыта людям теми, кто достигал преображения состояния сознания так же, как Лев Толстой, на вершине Пути одиночного восхождения личной духовной жизни.
Тем ни менее Толстой раскрыл перед человечеством новую возможность реализации Духа, новый тип духовности и одухотворенности. Только в легендах это совершается одним человеком от начала до конца. В действительности это, конечно, не так. Некто, первый из раскрывающих, совершает пробой (не без накладок, конечно), другие входят в этот прорыв, расширяют, углубляют его и максимально осуществляют новые возможности, раскрытые (свыше раскрытые) в результате первого прорыва.
Толстой достиг неких Вершин человеческой жизни сам, исключительно своим восхождением, на своем пути личной духовной жизни и посредством восхождения на Пути жизни. Это значит, что в его жизни содержался и, главное, был явлен (не столько им, сколько в нем и его трудами), явлен всем нам некий общечеловеческий Путь восхождения – совершенно особый и новый тип духовного движения по человеческой жизни. Этот новый для человечества Путь необходимо исследовать и развить. Как некогда исследовали и развили путь духовного восхождения, пробитый и явленный Буддой.
Толстой совершил основное – положил начало. Чему? – Осмыслению, разработке личной духовной жизни, провозглашению ее равноправного положения с общедуховной жизнью и прочному практическому укоренению личной духовности в отдельном человеке и человеке вообще. Учение Толстого – не только 90-х, но и 900-х годов – это учение о личной духовной жизни. Толстой определил, что Воля Бога (может быть, и не вообще, а именно сейчас, на данном этапе внутреннего становления человека) состоит в работе личной духовной жизни. Пришло время, и Бог поставил ее на верстак человека. Вот это и обнаружил Лев Толстой. И стал первым пророком личной духовной жизни.
Лев Толстой – тот, кто начал, кто пробил и кто заложил. Воспользуется ли человечество тем, что заложил Лев Толстой? Есть одно, едва ли не самое зловредное препятствие для этого дела, о котором постоянно толковал Толстой. Несколько слов о нем.
Обновлено 14 июля 2022 года. По вопросам приобретения печатных изданий этих книг - k.smith@mail.ru.